| Официальный сайт поэта Вадима Николаевича Делоне (1947-1983) |
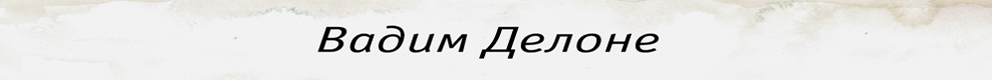 |
|
|
О Вадиме
– гармония печали, мудрости и детской беззащитности, сострадание, сопереживание, всепрощение, безусловная ценность дружбы.
О моих родителях Моя мама - Этель Самойловна Брухман говорила, что была медсестрой у красных и, когда я заболела туберкулезом, повела меня к врачу, которая оказалась ее бывшей коллегой. Мама великолепно играла в шахматы, побеждая мастеров, хотя не состояла ни в одном клубе. Еще шила шикарные вещи, придумывая фасоны сама, или я покупала в киосках, в свободной тогда продаже польский журнал «Кобета и жице» - «Женщина и жизнь» с выкройками. На улице у меня просили значки, принимая за иностранку. И пекла и готовила чудесно! В 1938 г. папа, узнав о своем предстоящем аресте, год скрывался у старшего брата Якова в Одессе, будучи уверен, что там искать не станут, и о нем забыли. Папа рассказывал мне, что самый страшный человек Меркулов. Я запомнила эту фамилию, потому что у меня был любимый артист Меркурьев, который играл в пьесах Чехова. Возможно, не зря запомнила, как оказалось позднее. Во время войны мама с детьми и сестра мамы тетя Маруся с дочкой, Ларой Богораз, уехали в эвакуацию в Сызрань. Пробыли там три месяца, потом вернулись в Москву. Недалеко от нашего дома на Б.Ордынке, угол Черниговского пер., находилась МОГЭС, поэтому часто были бомбежки. Помню окна, заклеенные черной бумагой, вместо выбитых стекол. В нашем доме жили политэмигранты из Италии и Германии, видимо, антифашисты, которых Сталин чудом не всех арестовал.
Папа работал в Подольске на авиационном заводе и привозил в Москву картошку и подсолнечное масло.
Все это распределялось между соседями, и мама очень боялась. Рядом жила старушка-немка.
Мама говорила, что деньги она просто так не возьмет, поэтому меня заставляли учить немецкий, который я ненавидела,
и родители платили ей за уроки. Не забуду неизреченную доброту родителей, как они помогали арестованным родным, друзьям и их детям. У нас в семье воспитывался Виктор, сын расстрелянного младшего брата папы Бориса – баскетболиста из Львова. А Лара отказалась писать своему отцу, потому что он – «враг народа». И к моему папе она испытывала лютую ненависть, и к Вадиму, как я узнала позднее! Вадим говорил: «Кто меня не любит,- непременно человек плохой, а кто любит, не обязательно хороший.» Когда Ларин отец, дядя Богораз, вернулся из Воркуты, он с Аллой Григорьевной жил у нас в ожидании реабилитации и жилья. Я запомнила феерически веселый Новый год. Мама очень любила украинский язык, и мы с папой пели ей: «Дывлюсь я на нэбо, тай думку хадаю, чому ж я нэ сокил, чому ж нэ летаю, чому ж мине Божинька крылья нэ дав»… В детстве из-за моих бесконечных ангин мне сделали «прокол», и папа упал в обморок. Но когда в Одессе на море был страшный шторм, и все стояли вдали от берега на парапете, мы весело купались и я, стоя на плечах у папы, ныряла под визг зрителей. И вот трагическая история с благополучным завершением. Мой любимый двоюродный брат Юрий, сын моряка и заядлого преферансиста дяди Якова, от удара в пах во время игры в баскетбол тяжело заболел. Образовалась опухоль, и Юра приехал лечиться в Москву. Папа обратился к своему родственнику скрипачу Самуилу Фуреру, чтобы тот порекомендовал хорошего врача. Светило онкологии вынес вердикт: это рак и необходимо срочно ампутировать ногу. Папа осмелился дать Юрию неоднозначный совет: «Откажись, иначе ты не сможешь жить». Мы с мамой в ужасе молчали. И Юра отказался. Летом мы жили у них на даче на 10-ой станции под Одессой, и я помню, как Юрка возлежал на раскладушке в абрикосовом саду, и к нему стояла очередь из одесских красавиц – добровольных помощниц в его лечении. И все миновало, как и не бывало. Мы часто ходили в драмтеатры и в Большой на оперы, никогда на советские спектакли. Очень хорошо помню: «Синяя птица», «Медея», «Пигмалион» и т.д. Когда собирались к Ларе и Юлику Даниэлю, мама говорила: «Пойдем подышать кислородом». Часто Лара жила у нас, особенно, когда болела. Однажды мы с Юликом выстояли огромную очередь на выстаку Дрезденской галереи, и он подробно рассказывал мне про каждую картину. Няня Лары Богораз из деревни под Белгородом иногда жила у нас, но не постоянно. Ее сын Юрий во время войны пропал без вести, и мои родители писали бесполезные заявления и ходили по инстанциям, чтобы добиться пенсии для Няни, но безрезультатно. Многие женщины из этой деревни приезжали к нам по тому же поводу и тоже бестолку. Одна даже обворовала нас, но об этом узнала только Няня, и воровка больше не появлялась. К счастью, летом меня отправляли в деревню. Из письма мамы я узнала, что Няня ей жаловалась, что я провожу много времени в церкви, и мама меня ругала, что с такими легкими я должна быть все время на свежем воздухе. Почему я ходила в церковь, совершенно не помню, – никакого религиозного воспитания я не получала. В школе говорила, что не верю в «дело врачей». Вызвали моих родителей, а ученикам запретили со мной общаться.
О жизни в России После школы я пыталась поступить в медицинский институт, даже год училась на подготовительных курсах, но на вступительных экзаменах получила четверки по русскому языку и сочинению при пятерках по физике и химии, и по конкурсу не прошла. Мне предложили поехать учиться в Рязань. Родители отговорили (не могу себе простить, что послушалась их). Тогда я поступила в Институт химического машиностроения, в котором получила диплом, пользуясь шпаргалками. От той поры осталось лишь одно отрадное воспоминание: нас отправили на целину, в сентябре земля там уже промерзла, на стенах вагонок, где мы жили, лежал очень толстый слой льда, грелись мы в тракторе, но вот однажды поехали в город и нашли там книги Ильфа и Петрова! И еще небо в Казахстане было красивейшее! Кроме медицины меня интересовал английский язык, так что его я выучила на курсах и в то время свободно на нем говорила. Когда арестовали Юлия Даниэля, а позднее Анатолия Марченко, я старалась помогать Ларе, и папа, зная об этом, часто давал мне продукты. Однажды мы с друзьями ехали на чьем-то газике в поисках жилья для Толи Марченко за пределами 100 км и остановились у продмага с названием «Товары повседневного спроса». На всех полках стояли только бутылки водки. Хочу похвастаться, как я развлекалась, ничем не рискуя. Когда в транспорте или на улице ко мне кадрились и предлагали встречаться, я отвечала, что очень занята. На все вопросы: «учитесь?», «работаете?», я отвечала «нет». «Тогда чем же Вы заняты?» Я совершенно серьезно говорила: «Антисоветской деятельностью». Все стремглав разбегались. И только Саша Каплан (гениальный физик) стал хохотать на весь троллейбус. Разумеется, мы стали друзьями. Мои композиции из предметов в сопровождении стихов Саша называл «иркибанами». … В первый раз меня арестовали в начале августа 1968 г. Дело было так. Я с полной сумкой писем в защиту Анатолия Марченко, которые накануне мне дала Лара, чтобы разослать их знаменитым людям, вдруг подпишут, поехала на почтамт. Поймали такси. Я, Виктор Файнберг, который возвращался в Питер, Виктор Красин и Иван Рудаков. Иван сел на переднее сиденье рядом с водителем. Я передала ему свою сумку. Мы с Иваном вышли на Кировской у почтамта. Без сумки! Иван ее забыл в такси, а в ней и письма, и мой паспорт. Мы знали, что в Крыму отдыхает космонавт, кажется, Егоров. С почтамта позвонили Петру Григорьевичу Григоренко, который был в Крыму, чтобы он обратился к этому космонавту с просьбой о защите Марченко. Утром я поехала в милицию и заявила, что я – невеста Марченко и имею право на свидание с ним. У двери меня встретили два гэбэшника, повезли домой и на обыске нашли 200 самиздатских документов и книг. Потом - Лефортово. Первый месяц я сидела в одиночке. Но махорку с бумагой выдавали. Потом перевели в камеру с наседкой. В тюремной библиотеке по каталогу можно было найти редкие книги. Я в Лефортове прочитала Марселя Пруста, «Декамерон» и т.п. Но на камеру было положено только пять книг на 10 дней, а моя соседка заказывала нечитабельную советскую дребедень. Еще выдавали газету "Правда", а встречу с адвокатом и родными разрешили после окончания следствия через восемь месяцев Моей следовательницей была наглая, самоуверенная Акимова и еще забегала Гневковская, которую явно подобрали на трех вокзалах. Примерно в марте был суд, с которым у меня связаны смешные воспоминания. В зал впустили моего отца и еще помню Зинаиду Михайловну Григоренко. Судебный зал находился на втором этаже, а туалет – на первом. Я очень часто просилась в туалет, судья не имела права отказать, и конвоир послушно сопровождал меня вниз Там ожидала меня толпа друзей с цветами. И Алик Вольпин исхитрился поцеловать мне руку! Меня приговорили к одному году лишения свободы и отправили сначала в пересыльную тюрьму на Красной Пресне, а потом в мордовский лагерь досиживать оставшиеся четыре месяца. Хотя папа исправно платил за квартиру, у меня ее отобрали по закону, так как я отсутствовала дольше шести месяцев. В это время Юлика Даниэля переводили из лагеря во Владимирскую тюрьму, а пересыльный пункт находился рядом с моей зоной. Я купила какие-то продукты в ларьке в обмен на вольную одежду и через лагерного врача передала их Юлику. К сожалению, потом так и не выяснила, выполнила ли врач мою просьбу. Рано утром нас выгоняли из бараков в рабочую зону. Мы прятали оставшийся с ужина черный хлеб, так как обед (рыбьи кости в воде) выдавали только в полдень. Но бдительная начальница лагеря самолично шмонала нас в поисках этого хлеба. В лагере я впервые услышала и полюбила песню Старкова: «И зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери…» К концу лагерного срока надо мной стали сгущаться тучи: бесконечные шмоны, допросы подруг и общелагерное собрание в мое отсутствие с решением продлить мне срок. Тогда я вспомнила Меркулова, о котором когда-то папа рассказывал, что он - страшный человек. В то время я не знала, что его расстреляли в 1953 г. вместе с Берия. Я сразу написала папе открытку с просьбой срочно сообщить своему «другу» о моей ситуации, уповая на неминуемую цензуру. Возможно, не это меня спасло, во всяком случае срок мне не продлили, и я вышла на свободу в августе 1969 г. Вспоминаю время, когда вся Москва потешалась надо мной: ко мне обратилась Надежда Яковлевна Шатуновская, мама Оли Иофе, а также мама и тетя Иры Каплун, чтобы узнать про самое необходимое для передачи в Лефортовскую тюрьму. И я ответила, что главное – это тетрадь с глянцевой обложкой вместо запрещенного зеркала. Меня вновь приняли на прежнюю работу в Институт патентной информации на должность старшего инженера. Но когда библиотечный день я провела у здания Верховного суда в ужасе от приговора «самолетчикам», пришлось уйти «по собственному желанию», так как начальству отдела пригрозили увольнением. У суда был и Володя Буковский, которому тогда в день его рождения я подарила шерстяной шарф. По словам Нины Ивановны, Володя берег его. Когда Буковского из Владимирской тюрьмы привезли в Цюрих, Вадим сочинил частушку: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана! Где найти такую б…, чтоб на Брежнева сменять». Прочитал по телефону в Москве нашему близкому другу по прозвищу «Ницше». В ту же секунду эту частушку цитировало все человечество. Потом меня устроили на работу в «Спортлото» в Лужниках, где я по трафарету проверяла лотерейные билеты. Самое удивительное, что в страшном 1973 г., когда я сидела в Лефортове, все мои бывшие работодатели не испугались и дали на меня по запросу КГБ блестящие характеристики. Я очень дружила с князем Чалидзе и часто бывала у него. Однажды в его комнате собралось много друзей, в том числе, Сахаров. И вдруг входит женщина неземной красоты в меховой шапке-кубанке, Люся Боннэр - будущая жена Андрея Дмитриевича! Потом я бывала у них на Садовом кольце рядом с Курским вокзалом, встречалась с Люсей в Праге. Я ездила на свидания с родными заключенных в лагерь, передавала информацию в «Хронику текущих событий» и иностранным корреспондентам, не говорившим по-русски. Поражалась памяти Лары и Саньки, когда они в Потьме наизусть читали стихи Юлика и других поэтов. В напрасной надежде на свидание с Толей Марченко после поезда летела на кукурузнике, в котором хотелось «кушать обратно», как выражается моя подруга-немка. Во время визита Никсона в СССР никого к Пете Якиру не пускали, и английский кор, чудесный Давид Бонавиа, когда гэбисты били его в подъезде, кричал: «Это хулиганизм, это не есть хороший тон!» А я купила огромный арбуз, позвонила в дверь Петиной квартиры и арбузом отстранила опешившего гэбиста. Про попытку отравления Пети в газете была напечатана статья Юлика Кима. Однажды мне повезло: Софья Васильевна Калистратова - адвокат Наташи Горбаневской, продиктовала мне запись суда прямо в юридической консультации на Арбате. Когда я приезжала к Ларе в ссылку, у нее жила абсолютно белая собака Манон, Маня, редкой породы – афганская борзая, которую в Чуне аборигены называли козой. Я должна была отвезти ее в Москву. В аэропорту - столпотворение. Понимаю, что в это трудно поверить, но в отчаянии я прошла по летному полю и обратилась прямо к летчику, расхваливая Манину красоту. Оказалось, что этот самолет почему-то пока не успел долететь до Москвы. На его борту сидели голодные путешественники, но летчики накормили только Манон. Ни меня, ни пассажиров! Летом 1972 г. совершенно чудесный человек Георгий Борисович Федоров отправил нас с Вадимом в археологические экспедиции в Молдавию и Карелию. Потом Вадим устроился рабочим сцены в театр Станиславского и очень подружился с актером Бурковым, который гениально играл в пьесе Толстого «Живой труп». И еще Вадим радостно работал осветителем в зале Чайковского. Теперь о моем позоре. Меня арестовали 3 января 1973 г. по делу о «Хронике текущих событий». Я знала, что в моем деле 35 томов. Раньше ко мне приходили подруги и рассказывали о своих показаниях, и Петя Якир говорил об этом дочери. Никого я не осуждала. Примерно через два месяца, в феврале мне дали очную ставку с Виктором Красиным, который убеждал меня, что надо вести себя, как он. Отлично помню, как я его жалела, зная, что раньше он уже сидел. Тогда мне даже в голову не пришло, что поведу себя так же. Однажды 5 марта 1973 г. во время моего допроса в кабинет вошел следователь Александровский и заявил, что для Пети Якира этот день перестал быть праздником. Конечно же я рассмеялась! В конце марта у меня была очная ставка с Надеждой Емелькиной. Она сказала, что НА ВОЛЕ все уверены, что необходимо давать показания. Как потом оказалось, Вадиму она вообще не сообщила о встрече со мной. Когда мы приехали в Калинин на ссылку к Вите Красину, Вадим спросил у Нади, зачем она меня обманула. Надя ответила: «Чтобы дьяволу продался не только Витя». Следователь убеждал меня, что у КГБ достаточно сведений для многих арестов, но если я буду говорить, никого не тронут. Еще он запугивал меня психушкой, мол, один мой сокурсник сказал, что я была альтруисткой, а это, якобы, психическое заболевание. Я ответила, что у гэбистов психическая болезнь – патологическое здоровье. Не знаю, где я это вычитала. Но я дала показания на четырех машинисток, причем считала, что это – хитрый компромисс. Еще мне предъявляли фотографии иностранных корреспондентов, но я отвечала, что не знаю никого из них. Дед Вадима обращался за помощью к Петру Капице, и тот просил Вадима читать стихи. Действительно, никого не посадили, но это не умаляет моей вины. В ноябре 1973 г. меня освободили без суда. Однажды меня вызвали в военкомат. Мы знали, что иногда - это предлог для отправки в психушку. Поэтому у одной из дверей стоял Вадим, а у другой – папа. Через несколько минут я вышла с криком «смирно!». Дело в том, что в моем институте была военная кафедра. Ребят летом отправляли в лагеря, но вместе с дипломом всем присуждали звание «младший лейтенант». А через несколько лет автоматически повышали в звании. Так я стала «лейтенантом». В конце ноября 1975 г. мы уехали во Францию. Вадим часто говорил: «Меня хотят убить медленной смертью». Когда папа заболел, «компетентные органы» отказали мне в визе и на похороны в апреле 1983 г. не допустили. Подруга написала мне, что были толпы благодарных людей, которых папа принимал на работу во времена «космополитизма», а когда его вызывали по этому поводу в райком, он отвечал, что партия учила его интернационализму. Как-то в день рождения Вадима я подарила ему комплект песен Галича, профессионально записанных на пленки. Во время очередного обыска эти кассеты изъяли. Но позже вернули пленки, с которых стерли песни Галича!
И вот, отбывание повинности горя.
О Веничке В своих письмах Веничка обращался к нам: "Милые ребятишки делонята".
С Веничкой Ерофеевым познакомились мы (Вадим и я) в 1974 г. В это время мы обитали у Надежды Яковлевны Шатуновской, известной московской правозащитницы, и Венедикт часто нас навещал, а иногда и жил по нескольку дней. Нужно сказать, что «Москву–Петушки» мы прочитали с восторгом еще задолго до нашего знакомства, и Вадим часто цитировал книгу в подобающие моменты и чаще всего в застольях. А летом все мы обитали на просторной даче у Деда (академик Б.Н. Делоне). Венедикт очень любил Абрамцево, особенно прогулки с Дедом в лесу по 20 км и походы за грибами. С величайшего позволения Бориса Николаевича, который запрещал любые огородно-цветочные мероприятия на дачной территории леса, для Ерофеева было сделано исключение, и он сажал там укроп, петрушку и еще какие-то загадочные цветы.
И вот, что я еще помню.
Паспорта у Венички не было и получить он его не мог, поскольку давно потерял так же, как и военный билет. А еще он говорил, что во времена Робеспьера паспорт мог заменяться просто свидетельством о гражданской благонадежности, а у него и ее нет. И все же отрадно жить в стране, где имущественный ценз не имеет ни политического, ни психологического значения. Но вот какое чудо, в которое трудно сегодня поверить, однажды произошло в августе 75-го. Я достала в "Березке" огромную бутылку какого-то сверхдефицитного заграничного джина или коньяка и, главное, невиданный тогда складной японский зонтик, и по наводке Вениных друзей мы с ним поехали в Павлово-Посадское отделение милиции. Мои подарки буквально сразили начальника паспортного стола, и он в течение одного! дня (фотокарточки мы предусмотрительно захватили с собой) выписал Ерофееву настоящий паспорт Гражданина Советского Союза! Мы не верили своим глазам, но факт был налицо. И этот факт был Чудом! На следующий день Веничка решил по-своему отблагодарить меня и отвел в самое свое грибное место в Абрамцевском лесу. И произошло еще одно чудесное чудо: я грибы собирать не умею и ничего в них не понимаю, кроме того, что вкус в них нахожу. А тогда, заблудившись в молодом ельничке, я нашла гигантский белый гриб без единой червоточинки. Будучи отнюдь не уверена, что такой шедевр природы может быть съедобным, я стала кликать Веничку, чтобы показать ему находку. Реакция Ерофеева меня поразила. Он был страшно возмущен, обижен и тут же попытался сбить с меня спесь: «Только в результате невежественного приседания ты могла найти этот гриб». И потом дулся на меня всю дорогу. Тогда я предложила Веничке переложить гриб в его, почти пустое, лукошко. Он согласился и сразу же подобрел. И тут же решил возвращаться не короткой дорогой через лес, а окольным путем, по которому гуляют дачники. Все встречные ахали да охали, а Веня этим молчаливо гордился. Еще мне хочется похвастаться своим юмором, который Веничка очень оценил и даже попытался усомниться в моем авторстве. Как-то он пришел на квартиру Шатуновской с авоськой бутылок, и я спросила, сколько Цирцей он принес (имелась в виду колдунья острова Эя в Адриатическом море, которая обратила спутников Одиссея в свиней). Во время совместных поездок, в том числе и в Петушки, мы часто играли во всякие литературные игры. Ну, например: кто-то читает первую строчку строфы, а другой должен продолжать с последнего слова новой стихотворной строчкой. Или вот, в нашей компании появляется новый человек, и Венедикт обещает ему продекламировать пять стихотворений любого поэта на выбор. Правда делал он это не совсем бескорыстно. И если Веня выполнял свое обещание (а так было практически всегда), проигравший должен был бежать за бутылкой... Ну и т.д. После нашего отъезда в Париж мы часто звонили Веничке и переписывались с ним. Когда узнали о его болезни, выяснили у врачей, какой аппарат ему нужен, чтобы он смог говорить. Оплатили этот диктофон Православные организации Кирилла Ельчанинова. Много вопросов мне задают в отношении доверенности на издание книги «Москва-Петушки». Все дело в том, что в начале 1975 года до нас дошли слухи из Франции, что одно из издательств (как потом оказалось, "Альбин Мишель") готовит к печати французский перевод "Москва–Петушки". Веня этим обстоятельством был весьма озадачен, поскольку никаких переговоров с ним не велось, и попросил меня представлять его авторские права за границей. С помощью друзей его подпись на доверенности, передающей мне права на издание "Москва–Петушки" за рубежом, была заверена в американском посольстве. По приезде в Париж в начале 1976 года я заключила договор с француским издательством «Albin Michel». По контракту издательство должно было передавать мне часть доходов от продажи ерофеевской книги. Я регулярно получала подробные отчеты, а деньги передавала Ерофееву с оказиями. Доллары посылать было опасно, поэтому мы ездили в Швейцарию, где можно было поменять валюту на рубли. Переводчица при правительстве Франции (милейшая Ирина Зайончек) часто приезжала к Ерофееву с деньгами, вещами и книгами (хотя по советским законам дело это было не законное), и он нам об этом сообщал. Книга «Москва–Петушки» имела явную антисоветскую направленность. За ее хранение и распространение еще до середины 80-х привлекали к ответственности. Но самого автора чаша сия благополучно миновала. Для меня и по сей день загадка, почему Веничку все же не арестовали. Трудно понять железно-феликсову логику КГБ. Через несколько лет я передала авторские права адвокату Борису Гофману, который многие годы вел документацию по издательским делам Ерофеева, и большая часть архива сохранилась до настоящего времени.

Политическое судопроизводство преступно само по себе; осуждение же поэта – есть преступление не просто уголовное,
но прежде всего антропологическое, ибо это преступление против языка, против того, чем человек отличается от животного.
Книга Делоне называется «Портреты в колючей раме». Я дала бы ей еще и другое имя – «Книга не о себе». На страницах этой небольшой книги Делоне повествует, в сущности, не только о судьбе заключенных, а о судьбе всей России, попавшей в силу трагического стечения обстоятельств за колючую проволоку. Как будто между строк дан анализ стратегии полицейского государства в преследовании своих своекорыстных целей. Стратегия эта предельно проста и по отношению, к тем, кто в лагере и кто за его пределами – в Большой зоне, и вечна, как само человечество, игра на худших сторонах человеческой природы. Впрочем, и на лучших. Художнику – певцу безнадежности – нет нужды прибегать к тусклым тонам. Фактура портретов, нанесенных на просвет в колючей проволоке, искрится всеми цветами радуги. Ни тени унылости. Сам язык повествования как бы ухмыляется. Контраст откровенной « en toutes lettres » матерщины, лагерного жаргона и изысканной речи, выплескивающей брызги мировой культуры на поверхность всеобщего одичания, необычайно бодрящ, придает повествованию характер юморески. Молодой задор, несломленный дух, рыцарская отвага слышатся в каждом пассаже саги о безнадежности. Читаешь – оторваться невозможно. Комическое усугубляется еще и вкраплениями высокопарной, прожужжавшей уши официальной преснятины. Вот, как оно на самом деле – вот, как велено говорить. Великолепная диалектика, с предельной лаконичностью выявляющая суть и того, и другого, и притом еще и смешно. Диапазон словаря Делоне поистине гигантский. Но не в диапазоне только дело. Говоря словами критика, того, который в творениях Пушкина не находил ничего хорошего, кроме умения употреблять слова в их истинном значении, и чьим – этим вот – мнением Пушкин особенно гордился, – Вадим в совершенстве владеет даром использовать слова по назначению. Книга заслуженно получила премию Даля.
Познакомились мы с автором этой поразительной книги в 1967 году в Академгородке, после того, как Вадим
отсидел почти год в Лефортове. Вадима приглашали в салоны академиков, на время оттаявших при Хрущевской оттепели,
и он читал свою «Балладу о неверии»:
Живопись, проза и стих – Зеркала, как пишет в своей книге Вадим Делоне, за колючей проволокой запрещены. «Люди, которые годами не видят ни родных, ни близких, лишены возможности встретиться даже с собственным отражением… Да и что вся наша неподцензурная литература, все выставки запрещенных художников, все то, чем я жил до ареста, – разве это не попытки отыскать запретный кусок зеркала, очистить его от грязи и встретиться в этом зеркале с самим собой хоть на минуту… Так что на воле даже в зеркало заглянуть многим страшно». Вадим Делоне заставил интеллигентные тени, какими мы были, не ограничиваться заглядыванием в зеркала литературы и живописи, чтобы увидеть самих себя. Он заставил многих из нас стать самими собой. Не будь Вадима, не было бы письма сорока шести, влившегося в поток протестов против преследования литераторов, правозащитников, носителей свободной мысли, против судебных инсценировок, сфабрикованных КГБ процессов… Его книга – о России, увиденной глазами ее народа. В предисловии Буковский подчеркивает фрондерский, по отношению к государству, дух нынешних лагерников и этим недовольством, сближающим политзаключенных и уголовников, как бы пытается объяснить ту атмосферу дружбы и доброжелательства, которой был окружен в лагере Делоне. Вадима любили, защищали, он пользовался уважением как советчик, помощник и парламентер. Но причина не только в изменившихся настроениях лагерников, но и в характере Вадима. Он – само воплощение аристократизма. А что такое аристократизм Вадим определил, не прибегая к этому слову и, конечно же, говоря не о себе, а о своем друге Лехе Соловье: «Сам не держа за душой заранее продуманной подлости, он в других людях старался подлости этой не предполагать». Аристократизм – презумпция невиновности каждого встречного, проекция на каждого человека, без разбора чина и звания, своих собственных, в себе не осознаваемых, благородных качеств; доверие, бессознательная убежденность, что принадлежность к товариществу благородных людей обязывает быть благородным. В его общении с людьми нет ни тени назидательности, нет ни заискивания, ни панибратства. Совершенно на равных апеллирует он к лучшим чувствам товарищей по несчастью, и общение с ним заставляет людей подняться выше своих интересов и стать на его сторону. Так было в Академгородке в Сибири, так было в лагере, опять же в Сибири. Вадим Делоне гораздо больше, чем аристократ в только что приведенном смысле этого слова. Он – подвижник, человек, готовый жертвовать собой ради другого. С величайшей симпатией описывает он обитателей фантасмагорического ада Брежневских лагерей. Само благородство, доброта, не знающая границ, поминутно перехлестывающая самопожертвование, водили кистью мастера, нанесшего эти портреты на обрамленный колючей проволокой холст. На картинах великих мастеров нет фона – каждый квадратный миллиметр картины, будь он в самом дальнем углу, — результат напряженного труда, испытание вкуса художника, элемент экспрессии. Читаешь книгу Делоне – эту трагическую повесть – и к щемящей боли за судьбу самого Вадима и судьбы его героев примешивается, нет, властвует над болью чувство эстетического наслаждения. Чем оно обусловлено? Сознанием – есть правда на земле, ибо Бог есть Слово и Слово – это Бог. То, что понято так ясно, так прекрасно выражено в слове, не может не иметь творящей силы. Я, читая книгу, испытала великую радость. Казалось, он не умер, жив, звучит его на французский манер чуть картавая речь, его захлебывающийся смех, смех, пронизывающий каждое его слово, как солнце пронизывает лесную сень. Видишь его улыбку, его аристократическую манеру внимательно слушать собеседника, его красивую мальчишескую голову, прекрасное сочетание французского изящества с российской сдобностью. Магия искусства. После лагеря я встречалась с ним в Москве, в Новосибирске и потом в Париже. В трудную минуту тут как тут был Вадим, чтобы помочь, ободрить, утешить. Нечистая сила вынудила его эмигрировать.
13 июня 1983 года в возрасте 35 лет он умер. Не выдержало сердце. Смерть его была легкой. Вечером он заснул,
чтобы не проснуться больше.
Раиса Берг *
________________________________
* Р.Л. Берг, доктор биологических наук, генетик.

Я редко встречала Вадима Делоне, но, мне кажется, знала его хорошо. Его легко было знать, он был весь как
на ладони – открыт, беззлобен, чист, всегда верен себе. Жила в нем печаль и такое редкое сознание и своей,
и общей вины за зло, разлитое по всему миру. А поэзия была ему так же естественна, как дыханье, она шла на
него ливнем, не надуманная, не вымученная – в простоте свободы: «Так мы сохраняем еще за душою шуршание слов
и сумятицу строк…» В детской улыбке Вадима отражалась живая душа – вот отчего было так легко любить его…
________________________________
* Бывший главный редактор «Русской мысли».

А. Рожанская. Из статьи «Он был поэтом», Я получила по почте подарок: небольшую, красиво изданную книжку «Портреты в колючей раме» Вадима Делоне. Сбоку наискось «Премия имени Даля». Увы, и эта книга, и единственный сборник стихов вышли посмертно. Его жена, муза, ангел-хранитель Ирина Белогородская выпустила эти книги. Сборник стихов вышел в Париже, проза в Лондоне – в одном из самых престижных издательств «Оверсис». Она же, Ирина, послала мне сборник и книгу. Держу в руках обе книги и вспоминаю наши встречи в Париже два с половиной года тому назад. Я гостила у своей бывшей ученицы Раечки, которая работает переводчицей, а жена Вадима, Ирина, тоже переводит. У них общие заказчики, общие работы. Так я познакомилась с Вадимом, попросила у него интервью для «Круга», он сразу согласился. Субботний вечер. Вадим привез Раечке материалы, она ушла работать в соседнюю комнату, поставив на стол легкое вино, невесомые печенюшки. Нельзя назвать беседой этот вечер. Вадим рассказывал, а я держала на коленях под столом тетрадь и писала закорючки на память. Он был удивительным рассказчиком, прекрасно изображал в лицах, к месту вставлял шутку, анекдот. Кое-что из того, что вошло в сборник «Портреты в колючей раме», он тогда рассказал, подарил сборники «Континента» и «Эхо» со стихами и рассказом «Маркузе». Надписал: «Асе Рожанской на память о встрече в городе Парижском, как его называл Высоцкий». О Высоцком говорил с придыханием, с болью, со слезами. Очень любил его, очень ценил его творчество, очень горевал о том, что «довели его, негодяи». Помню, поразило меня, что о лагере, об уголовниках, сокамерниках говорил, можно сказать, даже с какой-то ностальгией. Никакой грязи, никаких упреков. Необыкновенная жалость к людям, сострадание, умение выслушать, посочувствовать, понять. За это ли, за детскую незащищенность, за честность – но любили его зэки, старались помочь, чем могли… Вместе с целой компанией идем в самый-самый наимоднейший ночной локаль «Он и она». Сидим за столиком человек десять, но и официанты (в течение вечера их было не меньше пяти), и артисты обращаются только к нему. Был он по-особому красив, какая-то детская доверчивость освещала его лицо даже тогда, когда говорил он о вещах суровых. Французский он знал плохо, не хотел его учить, так как был убежден, что русскому поэту надо жить в своей языковой среде. Во Франции считал себя сосланным без срока. Но те слова, которые знал, произносил с безупречным французским прононсом так, что никто не верил, что он не парижанин. Любая актриса, которая для общения с публикой сходила со сцены, направлялась прямо к Вадиму. И артисты тоже. Магнитом что ли их притягивало? Не была бы при этом – не поверила бы… Трудно ему было в Париже, хоть и дышалось легко, можно было писать, не боясь цензуры. Он жаждал общения с людьми, вечеров, встреч. Ежегодные балы — встречи русских никак не могли утолить той жажды общения, которую он испытывал. Умер он, как говорят в России, в одночасье. А у нас в Израиле говорят, что так умирают праведники: лег и не проснулся…
 Я познакомился с Вадимом в 1967 году в Институте этнографии АН СССР на вечере поэта и драматурга Юлия Кима. Именно Юлий и свел меня с Делоне. 21 июня 1968 года я повез Вадима в Красную Пахру на дачу к Твардовскому, где многолюдно отмечался день рождения Александра Трифоновича, в те годы еще возглавлявшего «Новый мир». После застолья, когда гости разбрелись по участку, немногословный Твардовский кивнул Вадиму и сказал: «Читай стихи». Вадик, запинаясь от волнения, прочел несколько своих стихотворений. Александр Трифонович произнес: «Поэт», – и величественно удалился. Зная, как он скуп на похвалы, я поздравил Вадика и потащил его на другую дачу – к хорошо знакомой мне писательнице Наталье Иосифовне Ильиной. На террасе ее маленького домика Вадим снова читал свои стихи, и Наталья Иосифовна отзывалась о них с большой теплотой…
Перед отъездом Вадим заходил к нам с женой прощаться. Он метался по комнате, плакал, читал последние свои
стихотворения. Вот одно из них, сгусток безнадежности и муки:
Ветер красной играет листвой,
________________________________
* Доктор исторических наук

Из статьи Краснова-Левитина *
Я б это стихотворение внес в учебники по нравственному богословию. Выбивал бы в церквах над колокольнями.
Читал бы и читал. Я запомнил его еще в Москве, на «Рязани» (квартира Ю. Кима на Рязанском проспекте).
Шли, качая бедрами, барханы, Здесь все удивительно. Глубина философская и теологическая. Я уже указывал, что этот мальчик (когда он писал это стихотворение, ему было двадцать лет!) обратил внимание на то, что ускользнуло от внимания самых замечательных экзегетов, что слова «горе вам!» Христос адресует фарисеям и только фарисеям. Богословская глубина неожиданно соседствует с незнанием. Так, апостола Петра никто не называл пророком. Строгая мужская рифма как бы бьет по нервам, запечатлевает стих навсегда, на всю жизнь. Это стихотворение адресовано митрополитам, архиепископам и епископам, священнослужителям всех религий и исповеданий. Всем проповедникам и современным пророкам. И новым фарисеям; тем, кто укрывшись за стенами Кремля, лицемерно ратует за мир, а сам наращивает вооружение и разбойничает в Афганистане. И к тем, кто якобы печется о бедных людях, загоняет их в кабалу, в беспросветную нужду. Ко всем, ко всем обращены упреки Христа, так проникновенно и взволнованно переданные поэтом. И здесь мы умолкаем. Там, где говорит Христос устами поэта, людям говорить нечего.
________________________________
* А.Э. Краснов-Левитин, священник и преподаватель

Из статьи Ю. Рыбовалюка * Следом за мной в «купе» протиснулся молодой высокий парень в не по росту маленькой телогрейке, делающей его долговязым и сутулым, в нечищенных кирзовых сапогах. Шапка свалилась с его большой головы, и он, поднимая ее и показывая на соседнюю шконку, спросил: - У Вас свободно? Мой слух, привыкший к матерно-блатным фразеологизмам, осквернило обращение на «вы». Это заставило поближе присмотреться к соседу. Он, положив свою бирку на тумбочку, расстелил матрац и разбирал вещи. В это время я «сфотографировал» его данные. - Ты можешь сказать одним словом, за что сидишь? - Одним? Пожалуйста. За клевету. - Ну и что, ты действительно оклеветал советскую власть? - Это она так считает. - А ты? - Так, как она сама себя оклеветала – столько «правды» о себе наговорила за все эти годы, никому не под силу. И он начал рассказывать. По привычной размеренности его голоса я понял, что делает он это не впервой. Мой сосед по нарам по счастливому стечению обстоятельств оказался тем инакомыслящим, который и открыл мне на правду глаза. Сейчас, когда о культе, о раскулачивании, о репрессиях стало известно почти все, это может показаться банальным. Но тогда, узнавая от Вадика все эти страшные факты, я с трудом принимал их. Сопоставляя просходящее вокруг меня с официальной информацией, я видел и ощущал огромную разницу не в пользу последней. Вадик умело разрушал мое советское миропонимание… На мой вопрос: «Какой свободы тебе надо было там на Красной площади?», он ответил: «Свободы слова, свободы творчества, свободы организаций, плюрализма».
Я встречал всяких людей: и дураков, и нормальных, и умных, и мудрых, — по-разному они выказывали свой интеллект или
отсутствие его. О Вадике я могу сказать, что никогда во время наших встреч ни единым мускулом лица, ни нотой голоса
не показал он своего превосходства в знаниях надо мной. Ничего в нем не было от лидера, никаких признаков вождизма…
________________________________
* Солагерник Вадима

Письмо Корнея Чуковского
Дорогой Борис Николаевич!
Что сказать Вам о тех стихах Вашего внука, которые Вы сегодня прислали ко мне? Первое впечатление: незрелые стихи очень даровитого мальчика. Иногда не выдержан ритм, иногда небрежна рифмовка. Но всегда есть крепкий лирический стержень – верный признак подлинного поэтического дарования. Дарование чувствуется уже в его первых юношески наивных стихах, трогательно посвященных Вам, дорогим предкам. Замечательно, что в этих ранних стихах, озаглавленных «Стихи о счастье», поэт прославляет спокойствие духа, уравновешенность чувств. Он даже готов похваляться своим бесстрастием. Обращаясь к другу, говорит так:
… к бесстрастью моему
Но бесстрастье, очевидно, было у него временным, преходящим.
Прочие стихи, даже ранние, выражают смятенность чувств. Эта смятенность – даже в стихах о природе:
Колокольни ясные на заборы молятся, Не мое дело давать Вам отчет о содержании стихов. Содержание обычное в поэзии юношей: влюбленность, тоска, мечтательность, но если говорить о форме, можно с уверенностью сказать, что в позднейших стихах она становится все более зрелой, все более артистичной. Виден несомненный рост дарования – о нем свидетельствуют хотя бы эти стихи о колокольнях и другое стихотворение, «Среди ночи концерт Мендельсона». Словом, мне кажется, что Ваш внук на верном пути, и что если он будет работать над своим дарованием, советские читатели приобретут в его лице сильного большого поэта. Но работа предстоит ему упорная.
[Осень 1968 года]
________________________________ * Корней Чуковский ознакомился со стихами Вадима Делоне, присланными ему дедом поэта, Б.Н. Делоне, в то время, как Вадим находился в тюрьме в ожидании суда по делу о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. Передавая свой отзыв о стихах Вадима Борису Николаевичу, К.И. Чуковский дал прямое разрешение использовать этот документ во время процесса. Письмо было оглашено на суде защитником Вадима С.В. Калистратовой и, по ее ходатайству, приобщено к делу.

Предисловие Владимира Бережкова *
Перед вами свидетельство человека, чистого душой, о своем и нашем времени. Он хотел добра, справедливости и свободы, и сделал для этого все, что мог. В последние десятилетия такие люди были на виду, потому что жить без них было невозможно. И боролся он за эту свободу и справедливость не только на кухне, как многие из нас. Выйти на пять минут, «пять минут свободы», на Красную площадь, точно зная, что за этим последуют годы лагерей, — на это в 1968 году решились только семь человек. И не будем юлить перед собой — свобода не приносит нам счастья, а ставит человека перед неразрешимыми проблемами, изгоняет из страны, делает его одиноким и убивает. Но отказаться от нее, как от судьбы, невозможно. Делает одиноким? Такого большого и красивого жизнелюба, как Вадим? Человека, близкие друзья которого — Юлий Ким, Александр Галич, Виктор Некрасов, Леонид Губанов? Человека, который нашел и сохранил любовь, и этому не помешали следственные изоляторы? Да, но дружба и любовь должны быть в Москве, а ВСЕ друзья — на Родине, на свободе и живы… В этой книге представлены свидетельства очевидца и участника той сумасшедшей борьбы «за вашу и нашу свободу», чтобы еще раз напомнить людям, где и когда они живут; здесь, на Родине, впервые публикуется книга прозы и стихов свободного человека и поэта Вадима Делоне. Когда он уезжал, то сказал мне, что проживет там (в Париже, на Родине предков) не более пяти лет, но там были друзья — Галич, Некрасов, Буковский, — и он прожил семь, до 13 июня 1983 года.
________________________________
*
К книге Вадима Делоне «Роман. Стихи» (Омск, 1993);

Предисловие Владимира Буковского * История взаимоотношений политических и уголовных заключенных в советских лагерях слишком сложна и запутанна, чтобы обсуждать ее детально в кратком предисловии. Когда-то, на ранних этапах построения социализма, идеологи пролетарского государства объявили уголовников «социально близким элементом», т. е. теми же пролетариями, только временно «заблудшими». В полном соответствии с наивной верой всех социалистов в определяющую силу социальных условий, бородатые философы 20-х и 30-х годов утверждали, что преступность порождается звериными законами капиталистического общества, где «человек человеку волк», и что в условиях социализма она исчезнет сама собой. Ведь если волка долго кормить одной морковкой, то он обязательно превратится в кролика с длинными беленькими ушками. Но одно дело — писать все эти благоглупости в социалистических журнальчиках и популярных брошюрках, другое — воплотить в масштабах огромной страны. Истории было угодно, чтобы бородатые философы и их доверчивые последователи превратились вдруг во «врагов народа», т. е. разделили концлагерные нары с жертвами капиталистической несправедливости, «пережитками проклятого прошлого». Легко понять, к чему привел этот социальный эксперимент. Для «социально близких», поощряемых к тому же начальством, лучшей добычи и желать нельзя было. Даже гораздо позже, во времена, описанные Солженицыным, т. е. в 40-е и 50-е годы, для политзаключенных самой тяжкой частью их наказания было соседство с уголовниками. Однако именно в эти годы и произошел перелом в отношениях. Прежде всего потому, что изменился состав политзаключенных. В лагеря гнали теперь фронтовиков, прошедших огни и воды, население оккупированных немцами территорий, бойцов национальных движений сопротивления из Прибалтики, с Украины, из армии Власова. С другой стороны, существенные перемены произошли и в самом уголовном мире. Поощряемые начальством «социально близкие» выросли, наконец, в такую силу, что стали уже опасны власти. Преступность в стране возросла до угрожающих размеров, особенно в послевоенные годы, и это противоречило самой доктрине: ведь по мере построения социализма преступность должна сокращаться. Словом, где-то в идеологических недрах власти возник знаменитый лозунг: «Преступный мир должен сам себя истребить!» И вскоре уголовники, умело расколотые властями на два непримиримо враждующих лагеря, принялись истреблять друг друга — началась «сучья война». Нет нужды повторять, как восстания политических привели сначала к их освобождению от гнета блатных, затем к созданию отдельных политлагерей и, наконец, к хрущевским освобождениям. Все это ярко показано в 3-м томе «Архипелага ГУЛаг». Достаточно сказать, что раздельное содержание политических и уголовных продержалось до середины 60-х годов, и вплоть до этого момента обе стороны знали друг о друге очень мало. Видимо поэтому среди политических бытовали представления старых времен, рисовавшие уголовников заклятыми врагами. Среди уголовников же почему-то возникли легенды, что в политических зонах легче: лучше кормят и меньше работают. Случалось порой, что какой-нибудь отчаявшийся уголовник вывешивал у себя в зоне нацистский флаг (советская пропаганда неизменно изображала всех политических фашистами), бросал листовки или делал себе на лбу антисоветскую татуировку и, заработав политическую статью, бывал неизменно разочарован, найдя условия в политлагерях такими же, как в своих, а то и хуже. Но назад пути уже не было, и легенда продолжала жить. В 1966 году, обеспокоенные ростом правозащитного движения и стремясь сократить «статистику политических преступлений», советские власти вводят в Уголовный кодекс ряд статей, мало чем отличающихся от уже существующих политических, но зато позволивших посылать правозащитников в уголовные лагеря. Еще была у властей надежда, что мы опять окажемся несовместимыми и вспыхнет прежняя вражда. Убить руками уголовников — гораздо удобней, чем своими. Меньше шума. Конечно, далеко не всем жизнь в уголовном лагере далась легко. Кое-кто поплатился здоровьем, вернулся сломленным, искалеченным. Однако в целом эксперимент провалился, и подавляющее большинство правозащитников нашли нужный тон в отношениях с уголовниками. Более того, во многих случаях «политики» в уголовных зонах оказались центром сопротивления, пользовались огромным авторитетом у соузников. В сущности, титул «уголовников» можно лишь формально применять к той массе людей, которая населяет сейчас наши лагеря. Количество заключенных в СССР по всем подсчетам никак не ниже 2,5 - 3 млн. душ, т. е. около 1% населения страны. Большинство из них попали в тюрьму за пьяную драку, мелкие хищения с места работы, нарушение паспортных правил, автомобильные аварии и т.п., т.е. к уголовному миру относятся лишь формально. В иных условиях они вряд ли попали бы в лагеря, а многих советские законы просто превращают в правонарушителей. Для таких людей политзаключенный — это прежде всего «грамотный», «образованный» человек, нечто вроде ходячей энциклопедии, к которому можно прийти с любым вопросом или с просьбой написать жалобу. А кроме того, будучи государством обижены, они, естественно, симпатизируют политическому. Собственно преступный мир, или мир блатных, численно не превосходит таковой в любой другой стране Запада, и философия у них примерно та же. Это целая субкультура со своими законами, авторитетами и кодексом чести. Среди них порой попадаются люди выдающихся качеств, незаурядных способностей и редкой душевной щедрости. Это своего рода «аристократия». Непризнание власти любого государства является краеугольным камнем философии этого мирка, и потому противник этого государства вызывает их уважение. В отличие от сталинских времен, нынешний политзаключенный — не просто жертва режима. Это, как правило, человек, сознательно идущий в тюрьму ради своих принципов и продолжающий отстаивать их в неволе. В советских условиях, а тем более в условиях лагеря, где подлость, предательство и беспринципность борьбы за существование становятся нормой, люди, отстаивающие свои принципы и достоинство, неизбежно помогают друг другу. И как бы ни были различны их нравственные установки, им легче достигнуть взаимного понимания и уважения. Никогда не забыть мне фразу, сказанную одним из наиболее авторитетных воров своим собратьям, когда он, покидая зону с новым сроком, препоручал меня заботам остающихся: — Смотрите, мы сидим каждый за свое, а он — за общее. Быть может, это отношение не раз спасало меня впоследствии. Охраняло оно и Вадима Делоне, московского поэта со своеобразной, если не сказать трагической, судьбой. Девятнадцати лет от роду он был моим подельником по демонстрации на Пушкинской площади и провел год в следственной тюрьме КГБ. Будучи освобожден из зала суда и «тактично» удален из Москвы, Вадим попытался учиться в Новосибирском университете. Но через год после первого освобождения он принял участие в демонстрации против оккупации Чехословакии, за что и был приговорен к трем годам уголовных лагерей. Так что созрел он, как человек, как раз на зоне. И, быть может, поэтому Вадим оставил там навсегда часть своей души, как он и описывает в своей книге. Внешние обстоятельства, поддакивая внутренним, вовсю старались не выпустить его из «родного, заколдованного круга» лагерей: очарованного круга» лагерей: не успел он откинуться, как КГБ развернул кампанию по уничтожению правозащитного движения, и многие его друзья и жена Ирина оказались за решеткой. За освобождением жены последовала эмиграция, но в ней Вадим не прижился совершенно. 13 июня 1983 года, тридцати пяти лет от роду, он не проснулся в своей Венсенской квартире в пригороде Парижа. Поэтический талант Вадима был определенно не академическим: он писал не часто, не много, не ради утонченного развлечения или уничтожения белой бумаги. Мечущаяся душа, живая жизнь, прорвавшаяся в строку, месяцы духовных страданий, заплаченные за каждый стих, — это поэзия Вадима Делоне, пережитая, честная, невыдуманная. Такова же и книга Вадима, единственная им написанная, не мемуары, не трактат о лагерной жизни, а скорее зарисовки, наброски, новеллы, в которых автор живо и выпукло обрисовал характеры, нравы и отношения своих солагерников, передал саму психологическую атмосферу лагерной жизни, с той последней честностью, когда за каждую строку платишь кровью души. Смерть Вадима произвела сильное впечатление: во время похорон в Париже церковь была заполнена до отказа, сотни знакомых, а иногда и совсем незнакомых людей обращались к его вдове с предложением помощи. В России его поминали друзья. Он не был лидером, или идеологом, или академиком, но он был необходимым человеком, в котором соединялись честность, верность и сострадание, настолько самоотреченное, что он мог написать:
Но девочка письмо мне в лагерь шлет,
________________________________
* Предисловие написано к французскому изданию книги. 1984 год.

Андрей Пионтковский
*
«Пик Вадима Делоне»
Дважды с промежутком в 62 года судьба предоставляла мне счастливый шанс сопричастности к творчеству представителей разных поколений невероятно одаренной семьи русских интеллигентов с французскими корнями Делоне. В 1957 году я поступил на механико-математический факультет МГУ. И первой лекцией, которую я прослушал в знаменитой аудитории 1408 в здании на Ленинских горах, была вводная лекция курса аналитической геометрии выдающегося математика Бориса Николаевича Делоне. До конца учебного года аналитическая геометрия оставалась моим любимым предметом. Борис Николаевич покорял нас, первокурсников, не только ясностью и глубиной изложения материала, но и артистичностью своей лекторской манеры. В 2019 году мой друг и издатель моей книги «Третий путь… к рабству» Михаил Минаев предложил мне написать предисловие к первому на английском языке изданию книги внука Бориса Николаевича Вадима Делоне «Портреты в колючей раме». Вадим Николаевич Делоне (1947-1983) ушел из жизни так непростительно рано, что остался в памяти почитателей его литературного таланта и его подвижнической гражданской деятельности Вадимом. Вадим был одним из многих молодых людей в России, потрясенных открывшейся в годы их взросления частью правды о чудовищных преступлениях советского коммунизма. Душевной травмой для целого поколения стала не столько сама эта полуправда, сколько стыдливое «осуждение» сталинских злодеяний, звучавшее как их оправдание. Невозможно было примириться с фальшивым официозом оттепели – крупный деятель коммунистического движения товарищ Сталин совершил некоторые ошибки, но партия успешно преодолела последствия культа личности. Когда же советские танки в августе 1968 года раздавили не только Пражскую весну, но и последние иллюзии оттепели, самые лучшие и самые отважные из нас вышли 25 августа на Красную площадь на демонстрацию протеста против ввода советских войск в Чехословакию с лозунгом «За вашу и нашу свободу!». Их было 7 человек, молодой поэт Вадим Делоне самый юный из них. Вадим и его друзья спасали честь России. На следуюший день после демонстрации первая полоса еще не закрытой в Праге «Literarni listy» открывалась словами «Семь человек на Красной площади – это семь причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских». Наградой за этот подвиг ему стали 3 года советских лагерей. Он был выбран судьбой, чтобы создать «Записки из Мертвого дома» своего поколения. Вадим это, наверное, предчувствовал, когда в 1967-ом написал пронзительные строки:
Я будто тронутый немного Вот уже не одно столетие каждое новое поколение самых честных и совестливых «русских мальчиков» отправляет городу и миру свои «Записки из Мертвого дома». Матрица российской власти остается постоянной при шутовской смене ее идеологических одежд и масок – царская, коммунистическая, «демократическая». С ХIII века это одна и та же ордынская оккупационная власть в различных обличьях. Безошибочным чутьем она всегда выбраковывает носителей духа свободы, уцелевших наследников Киевской Руси. Сегодняшняя война улуса Джучи с Украиной - это последнее сражение уходящей Орды с Русью. 25 августа 2018 года, на Красной площади на демонстрации с тем же лозунгом «За вашу и нашу свободу» были задержаны Сергей Шаров-Делоне (двоюродный брат Вадима) , Анна Красовицкая (внучка Натальи Горбаневской), Леонид Гозман. Как заключенный Вадим имел право на трехдневное свидание с близким родственником. Самым близким человеком в семье для него с детства был дед Борис Николаевич. Когда Борис Николаевич приехал к нему в лагерь, то этот уже 80-летний человек был настолько потрясен всей обстановкой и удручен своим бессилием хоть чем-то помочь любимому внуку, что Вадим понял, что деду нельзя там больше оставаться ни минуты. Он бы этого просто не пережил. Ему удалось отправить деда обратно через три часа пребывания на зоне. А Вадим провел там три года, от звонка до звонка. Они переплавились в книгу, которую вам предстоит прочесть. Страшную книгу. Поэт, спустившийся в ад через десятилетия после Варлама Шаламова уже в постсталинской России, увидел в принципе то же, что и автор «Колымских рассказов». Лагерь - отрицательная школа. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать. «Портреты в колючей раме» - это еще один пик Делоне * , пик Вадима Делоне, пик его литературного и философского творчества.
Вадим прожил очень яркую, заполненную драматическими событиями, непрерывным творческим горением и служением своему народу жизнь.
И если он просил у Бога,
________________________________
*
Андрей Пионтковский, математик, политолог, Вашингтон.
*
Борис Николаевич Делоне был не только прославленным

Михаил Делоне *
И душе не хватило тепла…
________________________________
*
Михаил Делоне (1952 – 2002 гг.) – младший брат Вадима Делоне,

Ты умер вдалеке, на станции чужой,

Любовь Пузикова 1
Если бездушьем отравлены годы,
________________________________ 1 Любовь Пузикова, композитор песен на стихи Вадима Делоне
2,3 Эти строфы Любови Пузиковой включены в песню «А гуси гуськом…»
 Познакомились мы раньше, чем на площади, а подружились позже — в общем-то, сначала заочно, пока Вадим сидел. Пока в течение нескольких дней шли обсуждения места и времени будущей демонстрации, был и такой разговор: «Только Вадику Делоне не говорите: с нами еще бабушка надвое сказала, а на нем уже и так условный срок висит». Не помню даже, я это сказала или Лариса, но мысль эта была нашей общей. Сомнений в том, что он, если узнает, точно пойдет, ни у кого не было. И все-таки он на площади появился. И это было хорошо. В его словах на суде о пяти минутах свободы на Красной площади, за которые не жалко заплатить годами лагеря, не было ни тени рисовки. Для всех нас была это невероятная радость, а для него еще и искупление за продолжавшее его мучить не вполне идеальное поведение на предыдущем суде. (Написав «не вполне идеальное», я не иронизирую: оно, действительно, было всего лишь не на все сто процентов идеальным. В последнем слове, наслушавшись адвоката, который сваливал всю вину на тех, кто втянул бедного мальчика в нехорошие дела, Вадим возмутился и практически взял назад даже то частичное признание вины, которым начал процесс. Просто суд в своем приговоре предпочел этого не заметить и изобразил Вадима раскаявшимся. А общественное мнение в те времена было непримиримым — позже и худшие вещи прощались куда легче.) Нет, пожалуй, мы все-таки подружились не заочно, а за те три часа, что провели в «полтиннике» — 50-м отделении милиции на Пушкинской улице, ему уже хорошо знакомом по прошлой демонстрации. Наверно, именно здесь (на площади было не до эмоций) и возникло между всеми нами то ощущение, которое я после смерти Вадима сформулировала словами «Ближе брата… ». Потом был суд. Хоть и подельница, я была по эту сторону, «у закрытых дверей открытого суда» (формулировка Ильи Габая — увы, тоже покойного). Все, что я могла сделать, — это по клочкам записей, сделанных в зале суда теми, кто был туда допущен, восстанавливать тексты — сначала, в спешном порядке, последних слов, а потом и всей записи суда. Последнее слово Вадима всех поразило. По молодости, по лирическому темпераменту от него ждали — ну, что ли, поэтических завихрений, красот. А оно было сдержанное, глубокое, проникновенное, без экзальтации, мудрое и, в общем-то, негромкое — тем весомее и громче оно звучало. Это впечатление подтвердила потом Софья Васильевна Калистратова, защищавшая Вадима: «Нам, защитникам, Вадим — тем, как он вел себя и что говорил в ходе процесса, — подсказал не одну чисто юридическую идею». Это Вадим, мальчишка! И еще позже, когда уже был готов «Полдень» с полной записью процесса, одна из добровольных машинисток, перепечатывавших рукопись, сказала мне: «А Делоне-то! Моложе всех, а какая точность, безошибочность в каждом слове, в каждом ответе!» В приговоре Вадима «переродили», то есть переменили ему и дату и место рождения. Судья Лубенцова, по кличке Лубянцева, не дала себе труда посмотреть в дело: она списала данные прямо с предыдущего приговора, только ошиблась строчкой, и «данные» были не Делоне, а Кушева. Софья Васильевна на кассации доказывала, что это достаточное основание для отмены приговора, поскольку по всей формальности приговор вынесен некоему другому Вадиму Делоне, родившемуся не там и не тогда, но кассационный суд — хоть и не имел на то права — постановил просто исправить ошибочку. И другую — тоже: Лубянцева со заседатели приговорили Вадика к двух годам «плюс год неотбытого срока», чтоб было ровно три. Когда на кассации обнаружилось, что из этого года Вадим восемь месяцев отсидел, ему дали вместо двух два с половиной (чего кассационный суд делать опять-таки не вправе: он может либо утвердить приговор, либо смягчить, либо отправить дело на новое судебное рассмотрение). И опять мы стояли у закрытых дверей, только теперь не на улице, а в коридорах Верховного Суда РСФСР на ул. Куйбышева. А потом этот верховный-верховный суд зачитал свое постановление, отпечатанное на машинке, и в машинописном тексте от руки были исправлены дата и место рождения Вадима: постановление было готово до заседания. Чего я вдалась в эти крючкотворства, которые вроде бы вовсе и не воспоминания о Вадиме? Не знаю, но мне кажется — он был бы доволен, что, вспоминая его, я вспоминаю и все эти, с ним, в конце концов, связанные детали. Мы все были в той или иной степени крючкотворами в те годы, и это, надо сказать, здорово бесило судебные и следственные власти.
В начале ноября 69-го в Новосибирском аэропорту (так и хочется сказать: на Новосибирской пересылке — из-за слова «пересадка»,
или память рассказов о том, с каким грохотом, с какой обалденной популярностью проехал Вадим за год до того по всем уральским
и сибирским пересылкам) я написала Вадиму длинное письмо, в которое ухитрилась всунуть даже новости о последнем политическом
процессе с участием Софьи Васильевны Калистратовой. И письмо проскочило цензуру, хотя Вадим не получал почти ничего: все
задерживали. Но об этом я узнала только в 72-м году, освободившись сама, когда Вадим уже несколько месяцев был на свободе.
В Доме композиторов показывали фильм «Бумбараш», а в своем кругу Юлик Ким менял слова песенки и пел, обращаясь к Ире
Белогородской:
Ты стояла с одним молодым демонстрантом…
Потом пошло печальное. Вскоре Иру посадили. Вадим бегал с передачками, вечером работал осветителем в Зале Чайковского. «А ты в тюрьме, и больше силы нет ни бросить, ни закончить строки эти. Прости, что не увез тебя от бед…» … В декабре 1975 года, на месяц позже Ирины и Вадима, я приехала в Вену, и с тех пор, в принципе, мы уже не расставались, хоть иногда не видались неделями, а то и месяцами. Перезванивались по телефону, не раз — по телефону же — с Вадимом переругивались, но не поссорились ни разу. Мы как-то всё друг друга «встречали»: то они, «старожилы», встречали меня в Вене, то я — уже чуть ли не два месяца парижанка (хоть и жила в предместье) — водила их по Парижу, то они стали настоящими парижанами, жителями бульвара Сен-Мишель, а я только-только перебиралась по-настоящему в Париж из своих кретейских Черемушек. В Вене Вадим подружился с моим младшим сыном — это было то же самое чувство: «ближе брата». Иначе, как «подельничек», он Оську никогда не называл, а семилетний подельник, дорвавшись до венского Пратера, вытряс из Вадьки все его месячное беженское пособие. Но Вадику было не жалко. А может быть, и повадка эта наглая напомнила ему уголовный лагерь, о котором теперь он вспоминал ностальгически. Ностальгия его тоже не была рисовкой — это было ясно даже мне, патологически неспособной к ностальгии. Я помню, как в первый вечер я водила Вадима и Иру по Парижу: они глядели и не видели. Чуточку отошли только на Сен-Мишеле (после жизни на мрачной улочке у ворот Клиши, которая любви к Парижу явно не способствовала). Здесь, в квартирке под крышей, с окнами на Люксембургский сад, Вадим мне признался:
— Более-менее я с ним примирился, с твоим Парижем…
Как только мы перебрались и поселились по соседству, Вадим повел меня в угловое кафе, где хозяин его невероятно уважал. На каком языке Вадим с ним разговаривал — непонятно, но все сумел рассказать, и, появившись там первый раз, я обнаружила, что все: и хозяин, и постоянные посетители — знают не только, что это «поэт рюсс», но и про демонстрацию, и про лагерь. И каждый раз, когда Вадим с Ириной давно уже съехали оттуда на — как назло, опять мрачную —Азиль де Попенкур, хозяин все меня спрашивал: «Ну, как Вадим?» И я сообщала очередные новости. Пока не пришла с последней… Люксембургский сад попал даже в стихи Вадима. Конечно, в ностальгическом контексте и рифмуясь с Петербургом, но даже и это казалось мне какой-то надеждой на чуть большую открытость к тутошней жизни, хотя бы чуть большее приятие чужого пейзажа. Впрочем, пейзаж был довольно родимый: — Захожу, понимаешь, в Люксембург, — восторженно рассказывал Вадим, не выговаривая половины букв, но зато великолепно грассируя, — а там сидят на травке Ентин с Хвостенко, и бутылка красного вина… И не просто встреча с дорогими приятелями его так восторгала, а неожиданный посреди города Парижа русский дух, та Русь, которой веселие и невеселие — одно и то же. Нет, он так до конца и не смог смириться с тем, что он — «тут», а не «там». Заботы о друзьях, оставшихся в России (заботы не только душевные, но и постоянные материальные: посылки с каждой оказией, раздобывание лекарств и хлопотливая их переправка), помогали ему самому жить, поддерживали его. Но постоянно сверлившая мысль (не холодная головная мысль, а мысль-эмоция, чувство, ощущение), что лучше хоть в лагере, да «там», — она, конечно, давала тему стихам, заставляла биться их пульс, но его съедала, его собственный пульс останавливала и останавливала, пока совсем не остановила. … Вместе с последним дошедшим до Вадика письмом его горячо любимого друга Юлика Кима Ира опустила на гроб и эти стихи. Поэтому я решаюсь ими закончить.
ЭПИТАФИЯ
H. Горбаневская

Арина Гинзбург 1 Я думаю, правы те, кто говорит, что поэт – это вовсе не обязательно тот, кто пишет стихи. Можно не написать ни одной стихотворной строчки – и все-таки быть поэтом. По мироощущению, по отношению к жизни, к людям. Таким человеком был Вадим Делоне. Писал ли он стихи, выступал ли на каком-нибудь собрании или просто в домашнем кругу рассказывал забавные байки (особенно о жизни прошлой) – перед вами всегда был поэт. Человек щедрый, рыцарственный и уязвимый. Чистый сердцем, бессребреник, не принадлежавший ни к какой «партии», верный друг. Просто невозможно представить себе его преуспевающим, богатым, чиновным, лицемерящим и льстящим кому бы то ни было ради положения и карьеры. И, несомненно, есть своя закономерность и особый – горький – смысл в том, что книги Вадима вышли только теперь, после его кончины. Как заметил один мудрый человек: «Справедливость, как правило, торжествует. Но одной жизни обычно на это не хватает».
________________________________ 1 Бывший зам.редактора газеты «Русская мысль».
2 Из поэмы Вадима Делоне

Из некролога Виктора Некрасова Умер мой друг Вадим Делоне, мой младший друг. Он был вдвое моложе меня, но я называл его другом. Я его нежно любил, иначе и быть не могло – он был очень хорошим человеком… Впрочем, его все любили, жалели и любили. Врагов у него не было. Вадим прожил короткую жизнь, и книг у него совсем не было. Были стихи. Хорошие, всегда от сердца. Брезжит рассвет. Мне не спится. Пытаюсь вспомнить, когда же мы с Вадимом познакомились. Лет 15 назад, а может, и больше – на Пушкинской площади. Морозным вечером в день Конституции. За пазухой у него было полно листовок. Молоденький, совсем еще мальчик. Потом еще несколько раз встречались. А потом он сел… Встретились уже в Вене, когда он только что приехал из Москвы… Позднее, конечно, в Париже. Правда, не так уж часто. Бог его знает, почему. Он не любил Париж. Я, хоть и не стал французом, стал все же парижанином, он – нет. Он остался москвичом. На всю жизнь. Без Москвы, без друзей, без любимого своего Юлика Кима – он не мог. Ох, не часто встречаются люди, подобные Вадиму и его жене Ире. Денег у них никогда не было, но когда появлялись – то сразу же посылались посылки в Москву. Родным, друзьям. Без конца звонили в Москву – нужен был живой голос, близкий, родной… Да, он вел не самый правильный образ жизни, мало писал, меньше, чем нам хотелось бы, но ему не хватало воздуха, не хватало Москвы, друзей. И он не выдержал. Умер. И мне, нам, будет очень его не хватать – удивительного, чистого забулдыги-поэта, товарища и очень хорошего, доброго человека

Некролог К.Померанцева * . «Русская мысль».
Он не очень часто ко мне приходил. Я же был у него всего один раз. По телефону разговаривали чаще. Сговорились, что придет в конце месяца: разопьем бутылку вина, поболтаем, он прочтет последние написанные стихи. Он очень хорошо читал стихи, без лишнего пафоса и педалей… Я любил его и его стихи. Мы оба любили Высоцкого. За внутреннюю боль, за «отчаяньем сорванный голос». Отчаянье. Кто из нас не знал отчаяния чужбины? Вадиму прибавилось и отчаянье родины, ее тюрем и ее лагерей. Отчаянье вдвойне. И вдруг 14-го утром, в редакции – «Умер Вадим Делоне». Не помню, когда я испытывал такую же боль, теряя близких мне людей. Не по крови, конечно, по Духу. Близких по внутреннему неблагополучию из-за страшного мира, в котором приходится жить… Дорогой Вадик, мне очень тяжело, тяжело знать, что тебя уже нет среди нас. Спасибо тебе за все. За то, что иногда заходил ко мне.
________________________________
* Журналист, литературовед, сотрудник «Русской мысли».

Из статьи в газете «Фигаро»
Его смерть в 1983 году лишила Россию одаренного поэта, одного из ее лучших сыновей, составивших славу поколения.
Это погружение в страшный мир «мертвого дома» довело бы нас до отчаяния, если бы в нем не сиял неожиданный свет,
освещающий всю книгу Вадима Делоне, – свет, отражающий его незаурядную духовность. Благодаря Делоне мы видим,
что даже в этом аду, задуманном для разрушения человека, душа его, когда человек благороден, не погибает…

Письма Дины Азрикан * .
Дорогая Ирина,
Я училась с Вашим мужем на московском филфаке и его светлый
образ навсегда остался в памяти о нашей юности.
Я хорошо его помню на "собаке" (мезонин студенческий) филфака,
где он читал свои стихи или просто давал нам читать на скомканных
крошечных бумажках, которые он трепетно вынимал из карманов пиджака.
Он всегда был в пиджаке, рубашке и галстуке, таким я его запомнила.
Несколько лет назад, уже здесь, за океаном, я прочла о его ранней
трагической кончине. Если мне удастся еще хоть раз побывать в
Париже, я непременно хочу посетить его могилу. Вадим до сих пор
остается в моей памяти как один из самых чистых, светлых,
честных и очень ранимых людей 60-х годов. Он был блестящий поэт,
и он был абсолютно неординарный даже среди той кучки поэтов филфака,
которые держались особняком. Вадим нес в себе лучезарный свет.
Вы потеряли любимого, друга, мужа, но Бог наградил
Вас счастьем хоть немного побыть рядом с ним.
Дорогая Ирина, Спасибо Вам большое за искренний ответ. Хочу вам сказать, что все мои слова шли от глубины моего сердца, где до сих пор лежат воспоминания далекой юности филфака, где было столько надежд, и жизнь казалась бесконечной, несмотря на то, что все мы жили под немыслимым игом тупости и бесправия. Вадим был таким светлым лучом в этом водовороте беспечности и суеты. Читая о нем воспоминания тех, кто знал его в последние годы его жизни, я поняла, что он до самого конца сохранил чистоту своей души, несмотря на то, что пришлось ему пережить в своей короткой жизни. Это дано немногим на нашей Земле. Когда он стоял в кругу филфаковских мальчиков со своей вечно детской, блуждающей улыбкой, он очень выделялся, он был несомненным "небожителем". При своей божеской неотразимости он был очень застенчив, в нем полностью отсутствовала студенческая развязность, несмотря на его богемную внешность. Сейчас, когда позади меня целая жизнь, я все больше и больше "чувствую" прошлое, и как Вы знаете, за океаном все импульсы обостряются. Мне тоже выпало счастье родиться в семье неординарного человека, который жил в жизни так же, как на оперной сцене, а на сцене – как в жизни. И только многие годы спустя, когда я уже здесь написала о нем свои воспоминания, только тогда я поняла, каким озаренным человеком был мой отец. И я подумала, что несмотря на утрату, я должна быть благодарна судьбе, что у меня был такой отец. Поэтому я написала Вам слова о счастье, которое навсегда осталось с Вами. Вадим всегда с Вами, и то, что Вы были рядом с ним, только продлило и осветило его жизнь. Я хотела Вам написать, потому что я знаю, как отдается в сердце любящего человека каждое слово о любимом, которого уже нет. И Вадим поистине достоин таких слов. Вы делаете все, чтобы его имя не было забыто. Он был совершенно другой. Даже в мраморном вестибюле вуза он стоял всегда сзади, прижавшись к колонне. Он как бы стеснялся своего присутствия.
________________________________
* Филолог и пианистка. Дочь Арнольда Азрикана, оперного певца,

22 декабря Вадиму Делоне исполнилось бы 65 лет
Он мог бы дожить до этой юбилейной даты и встретить этот день в кругу друзей, в прекрасно сидящем на нем костюме, который он научился элегантно носить еще в юношестве. Его могли бы чествовать на юбилейных чтениях, а он бы отвечал на записки из зала, устало улыбаясь своей все еще чарующей улыбкой. Он мог бы прожить жизнь признанного всеми официального «левого» поэта, или хотя бы в должности заведующего отделом поэзии в одном из столичных журналов – связи его семьи вполне соответствовали подобному поприщу. В крайнем случае, он мог бы просто «пересидеть» в каком-нибудь отделе писем, или многотиражке, или в школьной учительской, проверяя тетради, и так тихо-тихо дожить до падения советской власти. А там уже – сам Бог велел почить на лаврах «непризнанного», диссиденствующего поэта, который только теперь и может напечатать шедевры, и занять тот самый кабинет, и поехать, наконец, на чтения своих произведений в далекие страны, и там с видом мученика читать наспех написанные вирши «по теме». Мог бы, мог бы, мог бы… но ты не смог, Вадим, светлый и чистый юноша моей далекой студенческой поры. Ты был невероятно талантлив, неправдоподобно красив, пронзительно честен, по-детски наивен и по-мужски отважен. Ты поехал в Переделкино на могилу Пастернака 10 февраля, в день его рождения, в лютый мороз, прогуляв семинар по истории КПСС, куда мы все бежали в страхе быть не допущенными к сессии за прогул, а когда на следующий день тебя спросили, где ты был, то ты просто сказал, что был там, где должен был быть любой русский поэт. Ты вышел на Красную площадь в пору страшного советского террора, вышел, протестуя против зла, насилия и несправедливости, вышел, потому что просто не мог поступить иначе, не мог молчать, когда мы все в это время – мы, твои ровесники и сокурсники, – отдыхая от груза лекций и семинаров, шепотом поносили существующий режим, плескаясь в реках и морях в сладком предвкушении нового студенческого года, полного любовных приключений и молчаливой борьбы с кафедрой научного коммунизма. Мы тебя обожали, Вадим. Мы трепетали, когда ты вынимал из своих карманов написанные ночью стихи и, нервно закуривая, дрожащими пальцами разглаживал скомканный кусочек бумаги и начинал читать, а мы благоговейно слушали. И вот в одно прекрасное утро мы прибежали на «собаку» (поэтический мезонин филфака), но тебя там не было, тебя не было и на следующий день, и тебя не было всю неделю, и тебя просто не стало. И мы поняли, что мы тебя предали, Вадим. Потому что мы остались, мы доучились, мы пережили и «пересидели» на наших кухнях все самое страшное в жизни, и у нас еще оставалось время все начать сначала, как будто ничего и не было. И нам исполнилось 65 лет, и мы нарядились в этот день и справили свои юбилейные даты. И вот по прошествии долгих лет я принесла белые цветы на твою могилу под Парижем, Вадим. Я стою рядом с единственной любовью твоей жизни – твоей Ириной, и я смотрю на буквы, высеченные на камне – русский поэт Вадим Делоне, – и я вспоминаю тебя таким, каким ты смотришь на всех нас с фотографии на твоем персональном сайте. Именно таким я тебя запомнила, и именно эту твою улыбку я не смогла забыть никогда. «Поэты долго не живут» – как это правдиво больно. Я бы сказала, что долго живут рифмачи, но не поэты. Поэт – это совершенно другое. Это – личность. И ты, Вадим, был именно этой личностью. Ты сказал и сделал то, что никто из нас, тех, кто сидел рядом с тобой на нашей «собаке», не смог бы ни сказать, ни сделать. И поэтому мы все еще до сих пор здесь. И мы состарились, а ты остался по-прежнему тем светлым человеком, навечно молодым, бесконечно талантливым, смелым и честным. Ты не умер, ты – погиб. А души погибших – это вечные ангелы.

Ольга Иофе-Прохорова. О Вадиме
Вадима Делоне нет с нами уже сорок лет. Он ушел очень рано в тридцать пять лет. Его добрая улыбка освещала все вокруг него, и этот свет притягивал к нему. Поэтому и через сорок лет нам его так не хватает. Вадим был на редкость одаренным. Но мне хочется говорить не о его поэтическом и литературном даре. Хотя, увы, не при жизни Вадима, но сейчас, слава Богу, все, написанное им, издано. И все, кто хочет, могут всё прочесть и, надеюсь, полюбить его творчество. Но самым редким Даром Вадима были добро и любовь к людям. Он был строг и требователен только к себе, а всех окружающих умел понимать и прощать. Жизнь его была очень нелегкой. Он видел много зла и жестокости, но Дар любви никогда не терял. В двадцать один год за свое участие в известной демонстрации на Красной площади он попал на три года в сибирский уголовный лагерь. Об этом он написал уже в Париже свою книгу «Портреты в колючей раме». Среди прочих лагерных воспоминаний она поражает тем, что автор ни к кому не испытывает ненависти, он ненавидит только само Зло. Власти надеялись, что уголовный лагерь сломает Вадима. Не только тяжелейшими условиями, которые начальство по установке КГБ делало для него особо непереносимыми, но главный расчет был – оставить его в полной изоляции, без всякой поддержки. Да и на какую поддержку мог расчитывать этот московский интеллигентный мальчик, выросший в профессорской семье, полубогемный поэт среди сибирских блатных и лагерных активистов? Разве только на унижения и издевательства. Но случилось чудо. Его искреннее умение видеть людей во всех окружающих, сочувствовать им, понимать их, полное отсутствие чувства превосходства, но при этом непоколебимое чувство собственного достоинства помогли ему уже с самого начала, на этапах и пересылках, а потом и в лагере найти поддержку и помощь. Его многие уважали, даже если не понимали. Он ни под кого не подделывался и ничем не поступался. Он старался помогать, чем мог, всем, кто в этом нуждался, жалел страдающих. Он знал, что жалость не унижает, а лечит. Это он вынес из своего тюремного опыта: «Ничему тюрьма нас не научит, кроме чувства жалости, пожалуй». Он делился своей душой, своими стихами. И душа его не оскудевала. Даже некоторые граждане-начальники открывались ему, ища сочувствия и понимания. И он не отталкивал и их, хотя никогда не угождал им и не оправдывал. Он полностью сохранил себя, не сломался и не облатнился. Он сумел найти близких и там, быть с ними на равных, никогда не опускаясь, а неосознанно поднимая их до себя. Выйдя он написал в своих стихах: «…там остались друзья» Нам повезло, Вадик, знать тебя и мы до сих пор чувствуем твою любовь и надеемся на твое прощение и помощь.

Любовь Пузикова
Памяти Вадима Делоне
________________________________
* По мотивам стихотворения Сергея Иванова «Не плачь, мой друг».
 |
| В начало / Проза / Стихи / Статьи и Письма / Фотоальбом / Песни / Фильмы / О Вадиме |