| Официальный сайт поэта Вадима Николаевича Делоне (1947-1983) |
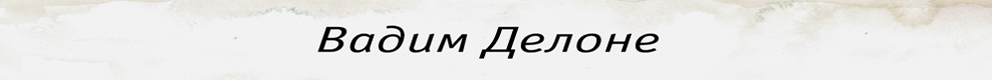 |
|
|
Случается, что люди попадают в историю. Собственно говоря – это дело нехитрое. Истории бывают, как известно, разные. Бывают и мировые. Реже люди попадают в легенды, ибо историю можно написать по заказу, но легенду – никогда. Много раз пытались, сочиняли разную чепуху про Лениных, Чапаевых, Лазо. Миллионы тратили, фильмы снимали, бюсты повсеместно расставляли – ничего не получилось. Легенды эти рассыпались на глазах, обращались в едкий анекдотец. Настоящая легенда – всегда вещь подлинная, как бы далека ни была она от формального течения жизни, от так называемых фактов. Сколько уже было легенд о Высоцком, сколько еще будет.
Сам он писал по этому поводу:
Нет меня, я покинул Расею,
или:
Тот, с которым сидел в Магадане, Я как-то подумал – зря Володя отнекивается. Он действительно, день за днем, всю свою сознательную жизнь воевал, сидел в лагерях, уезжал из России, возвращался в нее. Только никогда, ни на секунду Россию не покидал. В одну из легенд о Высоцком я попал в качестве случайного персонажа. Произошло это так. В 68 году я вдруг решил потребовать чего-то довольно бессмысленного и уж во всяком случае никак невозможного: короче говоря, прогулялся с друзьями по Красной площади, держа в руках кусок материи со словами: «За вашу и нашу свободу». Гулял недолго, ибо решено было, что мне следует несколько прохладиться, и с этой целью за казенный счет отправили меня в Сибирь. На пересылке случайно оказался мой подельник в соседней камере, и я, срывая голос, устроил концерт по его заявке. Слова неслись по гулкому коридору, тюрьма затаила дыхание. Читал, конечно, и Высоцкого, все, что дозволяла память. За что был вознагражден американскими наручниками и переведен в камеру особо опасных преступников. Весь этап я проехал в отдельном купе, и это обстоятельство позволяло конвоирам безбоязненно обращаться ко мне: «Спиши слова Высоцкого». За это меня не только по первому требованию выводили в туалет, подносили воду, но и передавали подарки от особо опасных – водку. Провезти водку по этапу – сложнее, чем протащить верблюда через игольное ушко. Но особо опасные выкидывали и почище фокусы, такие штуки откалывали, что даже свиту Воланда привели бы в недоумение…
Ну, а потом –
Все закончилось, смолкнул стук колес, … Писем, как правило, не отдают, и потому каждый новый этап встречают на зоне бесконечными расспросами. А этап – не только корабли ГУЛага, но и колыбель легенд, и, едва возникнув, легенды разбредаются по лагерям и ссылкам, то исчезая, то появляясь вновь, и пытаться остановить их так же нелепо, как изловить и зафрахтовать Летучего Голландца. Почти в каждом этапе, приходившем на нашу Тюменскую зону, непременно находился кто-нибудь, кто безапелляционно заявлял: – Да, в Свердловске, помню, дело было. Везли этапом в отдельном купе какого-то чудака-поэта с нерусской фамилией, в американских наручниках, всю дорогу стихи читал. А в другом купе везли Высоцкого. Так менты Высоцкого до того уважали, что даже гитару на этапе не отняли… Вновь прибывшему объясняли, что чудак-политик как раз на этой зоне. Вели знакомить и укоризненно качали головами: – Что ж ты нам, земляк, тюльку гонишь, мол, Высоцкий в Париж катает, когда он с тобой одним этапом шел. Что ты темнишь, мы уж не продадим – скажи, на какой он командировке, мы ему через волю грев организуем… И сколько я ни убеждал, что не сидит Высоцкий, блатные и неблатные только посмеивались – у вас там своя конспирация… Никак я себе представить тогда не мог, что окажусь в Париже и встречусь там с Володей… Каждую песню Высоцкого я по многу раз переживал, и особенно в эмиграции. Ждал новых… Ибо голос Высоцкого – это голос России.
И вот душная ночь на 25 июля…
На душе такая копоть,
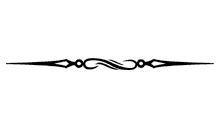
На днях из Москвы получено сообщение о чудовищном приговоре, вынесенном советским судом математику Валерию Сендерову – семь лет лагерей и пять лет ссылки. ТАСС сообщает о якобы подрывной и подпольной деятельности Сендерова. Известно, что человека можно засудить за что угодно, была бы зацепка. Но клеймо подпольщика, конспиратора или террориста никак не годится для Сендерова, такое обвинение – откровенная чушь, поскольку Сендеров ни взглядов своих, ни идей, ни контактов с людьми свободного мира, с теми, кто хотел его слушать, никогда не скрывал. Единственное, что как бы роднило Сендерова с подпольем, – это то, что у него было прозвище. Некоторые прозвища звучат как реверанс. Таким и было прозвище Сендерова. Мало кто в Москве знал его подлинную фамилию – его звали попросту «Ницше». А история этого прозвища очень простая. В добрые хрущевские времена выпускник знаменитого Московского физико-технического института Сендеров был арестован и брошен в психбольницу за участие в философском семинаре. Вина его заключалась в том, что на этом семинаре он сделал сообщение о философских трудах Ницше, за что и был обвинен чуть ли ни в создании фашистской организации. С тем же успехом можно было бы упрятать в психушку, например, знаменитого писателя Джека Лондона, посвятившего в своем романе «Мартин Иден» много страниц проблемам ницшеанства. Немногих знаю я людей, которые, пройдя через камеры советских психбольниц, не потеряли творческих способностей. Но Сендеров относится именно к их числу. Когда я познакомился с ним, он преподавал во 2-й московской математической школе. В школу эту набирают либо вундеркиндов, либо детей высокопоставленных особ, дабы обеспечить образование по высшему классу. Сам я проучился в этой школе год, но добровольно ее покинул, поскольку особого интереса к точным наукам не имел. Сендеров пригласил меня зайти в школу; было это в 71-м. Я был давно уже изгоем, вернулся после трехлетней «туристической поездки» по сибирским лагерям, последовавшей после того, как я осмелился выразить недоумение по поводу оказания «братской помощи» народу Чехословакии советскими танками. По пятам за мной шли какие-то лица в штатском, слали повестки то из милиции, то из психбольниц. И вот я в родной школе, в классе, где преподает Сендеров. Меня встречают как космонавта, и я откровенно недоумеваю, почему такое ко мне отношение, что происходит и как вообще может учительствовать в советской школе человек бескомпромиссный, беспартийный, еврей по происхождению и православный по убеждению, да еще сидевший в сумасшедшем доме. Оказалось, что класс у Сендерова самый лучший, успехи у его учеников поразительные и выгнать его трудно. Он объяснил мне систему обучения: за хорошо решенную задачу он премирует стихами Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама. Иногда выдавал и что-нибудь злободневное, в том числе и мою поэму «Лагерные экспромты» или стихи Бродского, Горбаневской, Губанова. Ученики входили в раж, и даже отъявленные балбесы старались. И никто не доносил. Лишь много лет спустя поймали Сендерова и выгнали с работы за «незаконный метод поощрения» усердных учеников. Живя на скромную зарплату, не имея никакого общественного положения, он всегда находил возможность конкретно помочь гонимым, сосланным, преследуемым. Зная, что мой брат ушел с мехмата МГУ только потому, что не захотел сдавать экзамен по марксизму, Сендеров придумал для него способ заработка. Нерадивых учеников из семей, принадлежащих к советской элите, он отправлял к моему брату на частные уроки. Мы жили тогда на даче моего деда в Абрамцево, неподалеку от Загорска. Сендеров слал телеграммы примерно такого типа: «Очередной бес неистово бьет механическим хвостом срочно приезжай Ницше». Это означало, что какой-то балбес не сдал зачет по теоретической механике. Дача находилась в 57 километрах от Москвы, но телеграмма приходила, как правило, через пять дней. Ее долго расшифровывали в конторе Андропова, долго думали, что затеял этот подрывник и конспиратор Сендеров. В 73 году арестовали мою жену. Валерий, видя мое, мягко говоря, неуравновешенное состояние, буквально не отходил от меня, помогал, чем мог. Возникла идея, чтобы один из самых влиятельных советских ученых попросил у Андропова о смягчении ее участи. С этим ученым я был знаком, но ему для чего-то срочно понадобились мои стихи, а напечатанного экземпляра как назло под рукой не было. Валерий сказал, что с утра должен быть в школе и найдет кого-нибудь, кто сможет отпечатать, потом звонит и сообщает, что печатает мать его ученика, детский врач, которая якобы меня знает. Я был в полном недоумении, поскольку ни с какими детскими врачами в знакомстве не состоял. Звонит еще через полчаса и называет номер телефона, откуда звонит. Я совсем ошарашен, – это телефон академика Сахарова. «Детским врачом» оказалась жена Андрея Дмитриевича – Елена Георгиевна Боннэр. Я долго потом корил Сендерова, дескать что ж, у жены Сахарова других забот нет, как мою писанину печатать, а он оправдывался: «Да что ж я мог поделать, я же не знал, прихожу в школу, спрашиваю учеников – у кого кто печатает? Один парень и говорит: "у меня мама печатает, и она как раз дома". Мы и поехали. Откуда же я знал, что он – сын Елены Боннэр». Мой брат уезжал на Запад. В Шереметьево провожали друзья. На таможне у брата сняли нательный крест, объявив произведением искусства, но разрешили отдать родственникам. Он вышел из таможни белый, отдал мне крест и сказал: «Ты тоже уедешь – передай крест Ницше…» Я, конечно, передал. Теперь и с него этот крест сняли – в советских тюрьмах и лагерях носить кресты не положено, но не под предлогом, что это произведение искусства, как на таможне, а под предлогом того, что крест – холодное оружие. Может быть они и правы, может и оружие, только не холодное… В последние годы Валерий часто звонил в Париж, пересылал свои статьи об интеллектуальном геноциде, о дискриминации евреев при поступлении в вузы по знаменитому пятому пункту советской анкеты – национальность. Кропотливо и с большим трудом составленные, передавал на Запад. Эти документы известны теперь многим, в том числе знаменитому французскому математику Лорану Шварцу. Сендеров информировал Запад о свободном профсоюзе СМОТ и о том каким репрессиям подвергаются те, кто принял участие в этом благородном деле. В последний, то есть надеюсь не в последний раз, когда Валерий звонил из Москвы, он со смехом цитировал мои предотъездные стихи:
Не спится мне, не спится,
Но это просто шутки, а всерьез он любил стихотворение, которое я ему посвятил еще в Москве:
Душа неделима и льдинкою вниз
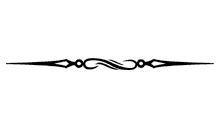
Высоцкий не мог жить ни в России, ни на Западе. Там он задыхался, и его постоянно унижали официальными
запретами и неофициальными приглашениями: «Меня зовут к себе большие люди, чтоб я им пел "Охоту на
волков"...». А на Западе он знал, что его песни будут непонятны, даже если их хорошо переведут.
В одной из последних песен он писал:
Я когда-то умру, мы когда-нибудь все умираем,
И объясняет:
Убиенных щадят, отпевают и балуют раем,
Но машины его разбивались вдребезги, он лежал в реанимации, и все кончалось благополучно. Бог его хранил
и не отпускал с Земли.
Символично, что последний его концерт был в Польше, где он спел песню «Монумент», рождавшую аналогию с
фильмом Анджея Вайды «Человек из мрамора». В этих стихах он предсказал судьбу своего творчества, там есть
такие прекрасные строки:
Мой отчаяньем сорванный голос
В Советском Союзе уже выпущен сборник его стихов под редакцией Роберта Рождественского, в который не только
не включены многие прекрасные песни Высоцкого, но даже изменены слова и выпущены целые строфы. Потрясающее
надругательство! В России годами не печатали таких поэтов, как Ахматова, Мандельштам, Пастернак и т.д.; но
их стихи хотя бы не искажали. Это новая манера советских деятелей искусства в штатском.
Высоцкий – один из трех самых известных бардов в России, которые ни в одной своей песне, даже на заданную тему,
не прославляли советский строй.
Первые песни Высоцкого были о блатных, и в последних он пишет о компании своего детства, об атмосфере
послевоенной Москвы, в которой он вырос, когда «из эвакуации толпой валили штатские», т.е. партийные чиновники.
На западной пластинке Высоцкого с песнями, которые, конечно, не выпущены в Советском Союзе, есть такие
замечательные слова:
Дети бывших старшин да майоров
Дети, остававшиеся во время бомбежек, осады Москвы, когда из нее уехал Сталин и все руководство, переживали и ощущали послевоенную атмосферу очень серьезно. Это было поколение беспризорников, потерявших отцов или оказавшихся в разрушенных после арестов и войны семьях. Об одном из своих друзей детства Высоцкий рассказывает:
Да он всегда был спорщиком,
И Высоцкий, как начинал с беспризорника военного детства, так и кончил беспризорником в состоянии войны.
Есть такое понятие – народный поэт. В Советском Союзе считаются народными поэтами Пушкин и Некрасов.
Но кто в народе знает толком их стихи? Эта мысль принадлежит Александру Блоку, который написал статью об
Аполлоне Григорьеве, авторе знаменитых цыганских романсов. В современной России, я считаю, есть три
народных поэта – Аполлон Григорьев, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий. Вот один эпизод. Я только возвратился
из лагерей и ехал к друзьям на ссылку. Мы сидели в вагоне-ресторане за одним столиком с двумя пассажирами,
спорили, я на чем свет ругал советскую власть. Пожилой пассажир неожиданно на станции вышел, а молодой говорит:
– Вы с ума сошли, это начальник лагеря, я с ним еду в одном купе. Он вас сдаст немедленно!
Я был еще побрит. И моя жена очень испугалась. Через некоторое время пожилой пассажир вернулся с водкой,
мы продолжили разговор. Оказалось, он едет в Сибирь к сыну в гости через всю Россию и везет в подарок пленки
Высоцкого.
И еще один эпизод на похоронах Высоцкого. Мы, конечно, не могли приехать, так как для нас границы Советского
Союза закрыты. На похоронах было около пятидесяти тысяч человек. И это в оцепленной на время Олимпиады Москве.
Знаменитый режиссер театра на Таганке Любимов принес пачку фотографий Высоцкого. К нему бросилась толпа.
И он в отчаянии, не зная, что делать, боясь, что его разорвут на части, отдал эту пачку милиционеру. И тут
какая-то пожилая женщина в слезах закричала: «Кому ж ты отдал фотографии Высоцкого! Менту!» Милиционер бросил
форменную фуражку оземь, зарыдал: «Да что ж я – не человек, что ли!»
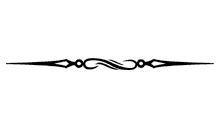
Что Вы думаете о советской поэзии, в частности, о Евтушенко и Вознесенском?
В ответ на этот вопрос мне хотелось бы рассказать о гибели поэтов моего поколения. В ноябре 73-го в Потьминских
лагерях погиб мой друг Юрий Галансков. Многие поэты, из тех, кто читал в 60-е годы свои стихи на площадях Москвы,
сошли с горизонта: время от времени их забирали на принудительное лечение в больницы общего типа и с помощью
аминазина и инсулина пытались отучить от вредного занятия писать и читать. Еще в 65 году 18-летний Леонид Губанов
писал:
Спрячу голову в два крыла,
Но есть и другой вид поэтической смерти – духовное оскудение. Потеря собственного голоса за счет добровольного
согласия совместно с хорошо налаженным хором грянуть гимн. Поэтам свойственно предсказывать свою судьбу: всем
известны «не смейся над моей пророческой тоской» Лермонтова или «это сделал в блузе темносерой невысокий старый
человек» Гумилева.
Мне кажется, что и Евтушенко предвидел свою судьбу:
И как бы Вы теперь ни утешались,
Эти строки принадлежат Евтушенко и посвящены К.Симонову; давным-давно они ходили в самиздате, а сейчас вернулись
к поэту и приобрели черты автопортрета. Заранее предвижу возражения: да, конечно, с кем не бывает, и, понизив
голос, – ведь даже сам Пушкин… Но как воскликнул один мой московский друг: «Кто Шаховской, а кто Чаковский,
и к Бенкендорфу ни ногой!»
Вспоминаю одну из встреч с Евтушенко. Я приехал к нему в Переделкино просить, чтобы он выступил в защиту только
что арестованных. Открыто протестовать он отказался, однако обещал связаться с верхами. То же самое несколькими
годами позже он ответил, когда его просили хоть что-нибудь сделать для умиравшего в лагерной зоне Галанскова.
Может быть, он и связывался, но слишком долго связывался…
В ту нашу встречу Евтушенко искренне отговаривал меня от гражданских протестов. Говорил, что я гублю свой талант.
Что становление поэта невозможно без публикаций. Что это – то же самое, как если бы художник не мог отойти от
своего полотна ни на шаг, чтобы взглянуть со стороны. Говорил, что сам он за одно настоящее стихотворение,
опубликованное миллионным тиражом на всю Россию, готов написать 10 поденных, готов унижаться.
Я спросил: «А не думаете ли Вы, что унижения равно убивают в Вас поэта?» Он возразил, что зато крепко стоит на
ногах, набил руку, еще многое сможет… Вообще Евтушенко вел себя по отношению ко мне с доступной ему
порядочностью. Даже как-то осмелился прислать мне в лагерь сборник своих стихов с дарственной надписью. Я был
неблагодарным и ответил ему эпиграммкой.
Не знаю, дошло ли мое послание «из глубины сибирских руд» до пиита. Скорее всего, из почтового ящика лагпункта
перекочевало оно в папку упомянутого в эпиграмме лейтенанта. Так или иначе, но наш диалог оборвался. Я рассказываю
сейчас все это по одной причине – Евтушенко – безусловно человек одаренный. Он одарен не столько поэтическим
талантом, сколько талантом публициста и актера. В эпоху так называемой оттепели он сыграл свою положительную роль.
Но уже в 60-е годы появилась поэма «Братская ГЭС», в которой плотина все о чем-то спорит с Египетской пирамидой.
Даже сталинские жертвы там упомянуты как излишние, но все же оправданные, и залог тому – плотина.
Тогда же мне посчастливилось прочитать статью Синявского об этой поэме. Сейчас я уже толком не помню статьи,
осталось только ощущение: Синявский говорил, что никакими плотинами, никакими идеалами жертвы оправдать нельзя.
Что Евтушенко как раз и строит ту самую пирамиду, что все произведения соцреализма и есть по сути пирамиды разной
величины.
Статья была предназначена для журнала «Новый мир», вскоре Синявский отправился в лагеря, в печати статья,
естественно, не появилась, а Евтушенко опубликовал в том же «Новом мире» поэму о Ленине. Поэму эту нельзя назвать
бездарной, многие находили ее даже крамольной – «много намеков, он что-то имел в виду». В конце поэмы Евтушенко
провозглашает во здравие России: «За будущих Ульяновых твоих!» Эти строки я читал на лагерных нарах…
Чем осторожнее становился каждый шаг Евтушенко в России, тем легче и звонче звучали его шаги на подмостках
зарубежных эстрад. Просвещенный Запад, в отличие от нашей темной Родины, продолжает видеть в нем не только
«величайшего и талантливейшего поэта нашей эпохи», но и поэта самого гонимого. Его изнурительная борьба за мир
во Вьетнаме вызывает слезы, его всепрощающая любовь к России разрывает сердца. Евтушенко сейчас почти на самой
вершине возводимой им пирамиды.
Он писал: «Я делаю себе карьеру – тем, что не делаю ее». Он и вправду не делает себе карьеру. Он просто выполняет
свой общественный долг. За гранью пирамид не видно лагерей… Только поэтический вкус стал ему изменять.
Неловко звучит «под кожей статуи Свободы». Что поделаешь, «замкнулся круг – назад возврата нет».
Вы часто выступаете на политических собраниях. Как Вы оцениваете борьбу эмигрантов за права человека в СССР?
Кто может свободнее себя чувствовать в СССР – политический диссидент или «подземный» поэт,
– и если эти две сущности живут в одном человеке?
Есть честный страх – в текучке лживой
И.Габай был редким человеком. В нем сочетались талант, подлинная глубинная образованность, гражданское мужество,
печаль за людей, душевная чистота и искренность, тонкость, искрящееся остроумие. Его обожали все – ученики,
уголовники в лагере, друзья. После лагерей он вернулся в Москву, но ему не дали возможности писать, преподавать,
таскали на допросы, угрожали, требовали хоть формального, но раскаяния. Рука Габая никогда не вывела ни одной
лживой строки…
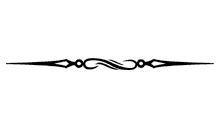
Дорогой Илья! Вот уж месяц как я на зоне. Наверное ты уже получил письмо, которое я отправил тебе, Петьке и Юлику. Наверное ты знаешь от Мишки некоторые подробности моей, с позволения сказать, жизни. Новостей у меня собственно никаких. Мороз страшный сегодня. Даже не вывезли на работу, так как ниже 40°. Переношу я холод вообще неважно в связи с хроническим гайморитом, а в совокупности с чурками и вовсе плохо, но больше угнетает сама обстановка. «Блаженны нищие духом», ну а нам, неприкаянным, еще тяжелее среди них. «Как тут писать, когда дышать нечем» (А. Вознесенский, «Треугольная груша»). Это единственная приличная книга, которая случайно попала мне в руки. Читать нечего, стараюсь думать, хотя сосредоточиться невозможно.
«Все чаще чувствую в душе своей усталость, Иногда в мозгу вспыхивают строчки Мандельштама, но ближе всего Галич. Мне кажется, все вы, за исключением Юлика, его недооцениваете. Мандельштам говорил:
«Во времена Пушкина поэзия была хлебом, теперь она стала для нас,
к сожалению, сладким пирожным». Я убежден в том, что Галич возвращает поэзии свойство хлеба.
Он сделал то, что пока так и не удалось сделать Евтушенко.
А. Галичу
Но это – литературные отступления. Искусство здесь
вообще кажется нереальным. Как страшно безразлична,
бездумна и темна большая часть народа.
То, что они знают, что такое спутник, и смотрят кино,
придает этому безразличию
бездумности еще более зловещий оттенок.
Не случайно – я, действительно, чуть не повесился… Ну да ладно,
что говорить о прошлом, хотя я в него постоянно возвращаюсь.
Дети, играющие на улице, чашка кофе в кафе… Ну, короче, все то, что составляет мозаику жизни. Здесь нет даже отсвета этой мозаики. Даже осколка. Странно, но повторяю, лагерь тяготит меня куда больше, чем тюрьма, пожалуй во всех отношениях. Мне будет тяжело писать. Чем лучше знаешь жизнь, тем тяжелей о ней писать, «да гитара, как видно, врет… мне б частушкой по струнам в лет… но мучительна, и странна лишь одна дребезжит струна». Ты вышли мне, если можешь, свои стихи, хотя бы несколько на выбор и, может быть, что-нибудь еще, то, что произведет на тебя впечатление. Очень хочется почитать, да и потом, быть может, это со временем послужит мне тонусом. Ты спрашиваешь, есть ли у меня какие-нибудь просьбы. Пожалуй, пока нет, кроме двух.
Мне бы хотелось, чтоб некоторые мои строчки были более
широко известны (стихи и проза). Это не из тщеславия.
Я просто надеюсь на то, что, быть может,
это будет еще одной каплей.
Жалею, что я не в Потьме, там было бы легче.
Извини за сумбурность послания. Все время, пока пишу,
чувствую скованность. Ведь нет возможности писать о многом,
о том, что в действительности занимает все время мои мысли.
Ты пишешь, что давно ждал от меня письма, надеюсь,
Мишка объяснил, в чем дело. Привет всем самый жаркий,
а Гальку (Таньку?) поцелуй в щечку.
Всегда твой
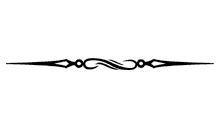 Дорогой Сережа! Вашу записку я получил и ничего толком не понял, кроме того что роковая секретарша порвала конверт с моим адресом. Укажите ей, что это неблагоразумно. Конечно, может быть, я чем-нибудь ее обидел в юности, но вряд ли – юность я провел в местах, где женщины и не ночевали. А потом «годы мытарств и нечеловеческих страданий сделали свое подлое дело», и я женился. Писем Ваших я не получал, кроме отстуканного на машинке циркуляра с припиской: шлите все новым американцам! Вы даже не прислали газету, в которой я писал о смерти Высоцкого. Мне, правда, разъяснили, что этот выпуск продают только на валюту. В своей депеше я решительно настаивал на опубликовании моих пожеланий «Новому Американцу» 2 , однако получил от Вас тот же самый запрос. Стихи, о которых Вы просите, боюсь, не очень придутся воспитателям новых американцев, так что пока воздерживаюсь.
Итак, жду ответа. Внесите ясность. Вы попросили что-нибудь написать – я написал. Либо Вам стало изменять чувство
юмора, либо мне – чувство реальности. Разъясните. Привет роковой секретарше. Моя жена остается неизменной Вашей
поклонницей. Это делает ей честь, как, впрочем, и Вам. Она ждет от Вас столь же остроумных книг, например,
«Нью-йоркский компромисс».
________________________________
1 Писатель, редактор газеты «Новый американец». Письмо написано в
ответ на предложение Довлатова опубликовать стихи Вадима в газете. 1. Крылатый девиз «Мы выбрали свободу и наше счастье в наших руках» заменить на более скромный: «На свободу с чистой совестью!» 2. Витиеватое разъяснение «Американско-еврейский русскоязычный еженедельник» заменить на более образное: «На Красной площади чехи китайскими палочками едят мацу». 3. Рубрику «Права человека» о духовном сопротивлении в СССР заменить на более возвышенную, соответствующую чаяниям Запада: «Россия недостойна ни Ленина, ни Сахарова».
4. В Европу газету рассылать под названием «Новый немец», «Новый француз» и т.д. 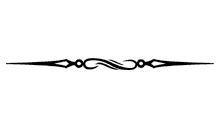
Однажды я заступился за Францию при самых странных обстоятельствах. Это было уже с полтора года назад.
Я приехал на конгресс Пен-клуба в Лондон. И после дискуссии повели меня самые настоящие лорды в таверну
Диккенса. Конечно, все в Англии лорды, но уж эти и вправду лорды из лордов. Из любезности ко мне они стали
пытаться говорить по-французски. Но естественно, что все порядочные англичане говорят по-французски так же,
как и я, поэтому они обрадовались, когда узнали, что и я по-французски ни бельмеса. Но недоумевали: «Вы же,
говорят, аристократ французский, как же так?» – Я им в ответ: «Считаю себя русским, и все тут». Они совсем
обрадовались и спрашивают: «Как же Вы живете в такой грязной стране, там же никто не моется…» Я им
говорю: «Видите ли, сэры, тут есть историческая предпосылка» (они прямо так с мест и привстали, ибо очень
разные исторические предпосылки любят). А я им: «Видите ли, джентльмены, вот в чем дело. Был во Франции крупный
политический деятель и большой мыслитель товарищ Марат. Так вот товарищ Марат, дорвавшись до власти, решил в
первый раз в своей жизни помыться. Ну залез он в ванну – тут его Шарлотта де Конде и зарезала. С тех пор,
говорю я лордам, никто не моется, такая уж традиция…
Я, как всегда, занят разными бестолковыми делами, а Ирка переводами, когда они есть. Но на житье вполне хватает.
Я даже позволяю себе изредка баловаться фазаном. Вообще в магазины почти всегда хожу я, ибо почему-то произвожу
на лавочников и барменов впечатление, и они издали еще кивают мне и здороваются почтительно: «Бон жур, шеф!»
Чем такая моя популярность объясняется – трудно сказать. Вернее, чем она объясняется у барменов – это понятно,
а вот у мясников и зеленщиков – неизвестно чем. Вообще французы в среднем относятся к нам очень хорошо…
Квартире нашей безумно завидуют, а один местный художник даже заявил, что мы вполне могли бы расставить у окна
стулья и сдавать по часам живописцам за плату. Закат каждый день бывает разный, и по-разному каждый день освещаются
парижские крыши. А ночью всегда видна Эйфелева башня. Часто, как во сне, так и наяву, вижу Абрамцево и скучаю
невероятно…
Все лето прошло в какой-то бестолковой суете, и мы так ни на один день и не выбрались куда-нибудь отдохнуть.
В Париже только два дня, как наступили холода, а то была теплынь, и мы очень жалели, что приходится ограничиваться
прогулками по Люксембургскому саду, вокруг да около дворца Медичи. Мишка к нам пока не выбрался из-за работы и
из-за того, что по канадским законам недавним эмигрантам трудно получить туристические визы.
Тебка 1
прислал ведомости Академии с извещением о вручении тебе премии
Лобачевского, и мы страшно обрадовались. Возможно, скоро и для нас откроется возможность продолжать образование,
так как парижские левые профессора из числа самой элиты обещали выбить для таких, как мы, стипендии, которые
позволили бы нам только учиться. Но это пока еще проблематично. Пока с нашими, хотя и не совсем постоянными,
заработками нам всего вполне хватает…
Чем я себя утешаю, – останься я, может быть, пришлось бы снова ехать на восток и все равно не видел бы ни тебя,
ни Москвы, ни Абрамцева. И все же разум – разумом, Париж – Парижем, а тоска – тоской…
Привет из Парижа, куда мы с Иркой только что вернулись с Корсики. Корсика – это Грузия в миниатюре. Местное
население было взволновано моей родословной и до аперитива спрашивали у хозяйки: «Где племянник врача Наполеона?»,
а после аперитива: «Где племянник Наполеона?..»
Разлуку свою с родиной переживаю тяжело, но, надеюсь, она не навечно. Очень о тебе скучаю и квартиру твою на
Ленинском представляю во всех деталях…
Дедонька дорогой, у нас все благополучно. Недавно вернулся из Германии, где выступал на большом митинге в защиту
человеческих прав вместе с фон Штауфенбергом, сыном того Штауфенберга, который пытался взорвать Гитлера, за что
и был повешен. Книга моя движется медленнее, чем предполагалось. Первая ее часть одобрена Максимовым, Некрасовым,
Галичем и другими. Много езжу по Европе…
Из стран, в коих я ухитрился побывать, наиболее понравилась Англия. Но там с работой еще труднее, чем во Франции.
В Париже все же меня опекают Некрасов и Максимов. Жутко тоскую по лесам и по тебе. Живу суетно, но всегда рад,
когда удается что-то сделать для плененных и сосланных. Вот Буковского все-таки удалось общими усилиями спасти…
________________________________
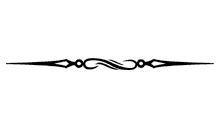
Милая, родная моя Ирка! Люблю тебя безумно и бесконечно и только о тебе и думаю.
О тебе, о тебе, о тебе, без конца. Вот и еще одну дату не удалось нам отметить вместе.
Твой день рождения – целую и обнимаю тебя. 26-го на Рязанский проспект приходили ко мне
Георгий Борисович с Майей, Габай, Бережков, Твердохлебов, Олька и Людка, не считая Мишеля,
который временно у меня со своей юной женой, которую он, как и его старший брат, предварительно
развел не без историй, напоминающих наши. Я в душе желаю ему хотя бы наполовину той любви,
которую пробудила во мне ты. Не говоря уже о том, что ты мне даешь, счастье мое, глупое и ненаглядное.
Все мы пили твое здоровье, втайне надеясь, что не так уж и плохо, да и на то, что ты скоро,
очень скоро будешь с нами. Я вообще-то не оптимист, тысячу раз представляю себе нашу встречу
и каждый раз внутренне замираю, как от виденья безумного счастья, которым Бог награждает меня также щедро,
как и испытаниями. Твой всегда и только твой
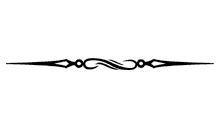
Кыска* , милая, не переживай, ради Бога. Все еще впереди. Хотя и имею 12 отрицательных качеств, хотя и хожу по замкнутому кругу, все же каждый день испытываю в своей душе и смерть, и рождение. Ты какая-то очень маленькая и глупая, хотя и старше меня. Я и твои-то Лефортовские ночи переживал как пытки, которым нет сравненья. Они меня опустошили до такой степени, что ничто, казалось бы, меня уже в жизни не тронет. Ты понимаешь, ничто. Понимаешь, я мечусь, рвусь, нарываюсь на все что угодно от страха потери чувствительности, но к тебе и только к тебе при всех перипетиях и перепитиях я отношусь как к больному маленькому ребенку. Я прошу тебя только об одном – относись к людям добрее.
Я и сам теперь не тот, что прежде
________________________________
* Кыска, домашнее прозвище Ирины, данное ей Вадимом, – производное от Кассандра
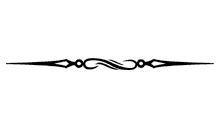
Дорогой Михаил Ильич! Надеюсь, попутный ветер вовремя доставит это письмо по назначению. Желаю, чтобы хорошее расположение духа никогда Вас не покидало и верю в то, что мы еще обязательно встретимся на этом глобусе. Недавно подумал, что мы с Вами знакомы уже почти 10 лет и ни разу не поругались, несмотря на жизненные перипетии. Надо ли говорить Вам, что ежедневно мысленно с Вами. Вы это и так, надеюсь, знаете и, может быть, ощущаете. (…) Езжу я не просто так и ведь не то, чтобы с целью – хуже – с прямой обязанностью что-то вещать. Несмотря на исключительную леность натуры, я все же стараюсь не повторяться. И от этого – все мысли в прошлом, а все заботы о том, как меня переведут на очередное басурманское наречие, так что красоты, проносящиеся за окном самолета, поезда или автомобиля, сливаются в некоторую абстрактную картину. (…) Во время «коктейль парти» по поводу предварительного знакомства с устроителями исторической встречи непременно подают виски со льдом или мартини, то бишь, по нашему – вермут. Оба эти напитка я почти стоически ненавижу. Правда, имея ввиду «русского поэта», всегда предлагают «водка оранж», что означает водку, смешанную непременно с апельсиновым соком, что уже много лучше, хотя непонятно – на кой ляд мешать и без того хорошие продукты. И я, дурея от жратвы и выпитой смеси, думаю, что если бы все счета, которые подписывают на этих обедах, сложить и вручить мне живыми деньгами, то я смог бы не только долги раздать, но и купить бы даже подводную лодку, как мечтает мой соотечественник В.Высоцкий : «Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать». Нелепо, согласитесь, хлестать шампанское, стоимость бутылки которого, примерно, равняется месячной квартплате. Наконец, запускают в зал, где серьезные люди не очень осведомлены о том, ходят в России по улицам медведи или перестали ходить. Несут какую-то ахинею, дают слово и не дают сосредоточиться, задают вопросы, как правило, глупые, но это не страшно, известно, что на самый глупый вопрос можно ответить еще глупее и тогда получится смешно. Лихорадочно соображаешь: что, о чем и как говорить, дабы хоть какая-то часть сказанного до кого-то дошла. Страшно другое – особенно любознательные лица, обычно, прежде, чем задать свой вопрос, который они полагают за изощренно-каверзный, излагают не менее 20 минут все свои платформы: политическую, социальную, историческую и т.д. (...) С утра происходит примерно следующее: с трудом разлепляешь веки, и мысль начинает метаться и продираться сквозь гул в голове, слабенько попискивая вопросами: «Где это я? Кажется, не в санатории – таких больших комнат в санатории не бывает, и не дома. А где у меня дом? Ах, да, в Париже, но и там комната меньше. Значит, в отеле. Тогда первый вопрос – хороший ли это отель? Если хороший, значит, должен быть в номере мини-бар, если нет – значит, плохой это отель». Содержимое бара проясняет сознание, но не окончательно, ибо по нему, по содержимому, нельзя определить, где ты находишься, ибо пиво в нем бельгийское, виски английское, вино французское, вермут итальянский и т.д. Тогда подходишь к окну и начинаешь действовать методом последовательного исключения. Так, например, если вокруг нет воды, а ее нет, значит, это не Венеция. Если нет мрамора и грязи, то и не Рим. Нету также и холодного ветра с изумительным привкусом озерной воды (его бы – этот привкус, я б различил), стало быть – это не Швеция. Значит, это – либо Франция, либо Бельгия, либо Австрия, либо Германия (…)
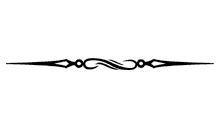
Виктор, родной! Поздравляю тебя, Тасю и баламута Ивана с наступающим Новым годом и Рождеством Господа нашего.
Желаю тебе, чтобы душу твою весь грядущий год не покидало то спокойствие и ощущение легкости, которые бывают
лишь в лесу в предрассветный час, когда ежели что и припоминаешь из прошлого, то одно лишь светлое, а будущее
не гнетет и не тревожит. Ивану желаю крепнугь духом, плотью и голосом, но чтобы орал он только «по делу», а то
ведь мы с тобой сами не хуже других знаем, что получается, когда зря глотку дерешь. Либо в такую даль попадешь,
где и снега белого никто отродясь не видывал, либо в такую, о которой мой покойный друг Владимир Семенович
правильно писал: «Здесь только снег при солнечной погоде. Ребята, напишите обо всем, а то здесь ничего не
происходит».
________________________________
* Близкий друг Вадима, бывший политзаключенный, священник
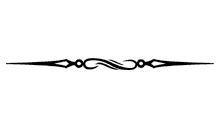
С изумлением прочитал в советской газете «Правда», что, выступая перед членами социал-демократической партии в Касселе, Вы критиковали тех, кто выступает в защиту «так называемых диссидентов». До сих пор подобные заявления в «Правде» публиковались только со ссылкой на выдающихся мыслителей стран коммунистического блока. И вот впервые такое заявление из уст вождя европейской социал-демократии. В своей наивности я сначала предположил, что «Правда», следуя своей закоренелой привычке, перекрасила Ваши высказывания в свой красный цвет, что Вы сочтете за оскорбление поощрение газеты, которая на протяжении более полувека занималась оголтелой травлей любой свободной мысли, а в настоящее время проводит клеветническую кампанию против Солженицына, Сахарова, Буковского и других. Однако недвусмысленная позиция, занятая Вами на недавней встрече социалистов в Амстердаме, показывает, что «Правда» не напрасно держит Вас в союзниках… Обращаюсь к Вам лично вот по какой причине. В августе 1968 года на Красной площади в Москве я вместе со своими друзьями поднял лозунг «За вашу и нашу свободу». Лозунг этот остался актуальным и по сей день. Под защитой дул советских танков идут аресты в Чехословакии. Советские политзаключенные объявили 100-дневную смертельную голодовку с требованием уважения Хельсинкских соглашений, а Вы, господин Брандт, призываете социал-демократов всего мира отказать в помощи тем, кто в борьбе за элементарные человеческие права поставил на карту свою жизнь. Поддержка многих моих соотечественников и западных общественных деятелей помогла мне и моим друзьям выйти из концентрационных лагерей и спецпсихбольниц. Но я не слыхал, чтобы Вы лично участвовали в нашей защите – ни в качестве министра иностранных дел, ни на посту канцлера свободной Германии. Несмотря на то, что Вы как немец должны лучше других понимать, что такое концлагерь и какова цена свободы…
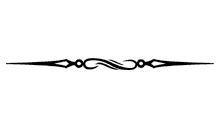
Выступая по радио «Люксембург» 23 февраля 1977 года, Вы высказали крайнее неудовольствие тем, что Л.Плющ якобы вмешивается во внутриполитическую жизнь Франции. Подобные заявления по своей сути слишком сильно напоминают предупреждения, которые работники советского КГБ делали Ю.Орлову, А.Гинзбургу и другим участникам группы Хельсинки в СССР. Им также предлагалось не вмешиваться в советскую политику и не доводить до сведения мировой общественности факты грубого нарушения человеческих прав в СССР. Всем теперь известно, чем кончились эти предупреждения – арестами. Ваша позиция по отношению к деятельности Л.Плюща, мягко говоря, не соответствует Вашему заявлению о том, что свобода неделима. Следует, очевидно, понимать Вас так: свобода во Франции существует, но только для Вас, товарищ Марше, и Ваших товарищей по партии, а не для какого-то Плюща или Амальрика и других, то есть не для тех, кто изгнан со своей родины без права свободно вернуться. Кроме того, не соответствует истине Ваше заявление о том, что ФКП всегда защищала политзаключенных во всем мире, в том числе и в СССР. Разрешите напомнить Вам некоторые факты. Год тому назад, когда В.Буковского пытали карцером во Владимирской тюрьме, его мать Нина Буковская обратилась к Вам с отчаянным призывом о помощи. Однако Вы заявили, что не получили этого письма. Тогда по просьбе матери я написал Вам о трагическом положении В.Буковского, просил немедленно выступить в его защиту. От Вас и газеты «Юманите» не последовало ответа, и никаких действий в защиту Буковского Вы не предпринимали. Вас, г-н Марше, больше беспокоит якобы вмешательство Плюща во французскую политику, нежели тот факт, что советские танки до сих пор стоят в Праге и под охраной их дул проходят аресты авторов Хартии-77. Все вышеизложенное заставляет меня предположить, что Ваши заявления о неделимости свободы – пустая демагогия…
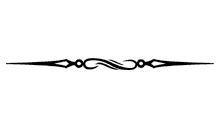
Мы, бывшие политзаключенные СССР, от имени узников Владимирской тюрьмы и концлагерей Пермской области,
в частности, В.Буковского, С.Глузмана и многих других, предлагаем вам принять их представителей, проживающих
в настоящее время на Западе, для ознакомления с положением чилийских политических заключенных на месте.
Это позволит нам сделать объективный сравнительный анализ режима содержания и законности ареста находящихся
там лиц с аналогичным положением в СССР.
Совершенно искренне
________________________________
* Бывший сокамерник Буковского по Владимирской тюрьме.
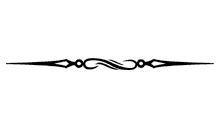 |
| В начало / Проза / Стихи / Статьи и Письма / Фотоальбом / Песни / Фильмы / О Вадиме |